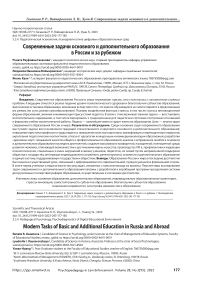Современные задачи основного и дополнительного образования в России и за рубежом
Автор: Гасанова Рената Рауфовна, Войнаровская Людмила Ивановна, Хуан Янань
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Педагогическая психология
Статья в выпуске: 2 (93), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Современное образование России и мира переживает кризис, оно столкнулось с множеством сложных проблем. К ведущим относятся резкое падение уровня психологического здоровья и благополучия субъектов образования; фактическая остановка образования, возникшая вследствие того, что многие обучающиеся не смогли перейти в предложенный им режим (по сути, режим самообразования). Помимо воздействия фактора стресса, в том числе стресса инновационной формы образования, значима и минимизация присутствия педагога. В связи с этим возникает важная задача - восстановить воспитательное содержание, в том числе вернувшись к традиционным для педагогики системам построения отношений и форматам учебно-воспитательной работы. Педагог - важнейшее звено и гарант качества образования. Цель - анализ задач современного образования России и мира. Результаты и обсуждение. Среди основных задач современного образования выступают задачи восстановления традиций отечественного и мирового основного и дополнительного образования; повышения престижа профессии и труда педагога, повышения качества подготовки, квалификации и переподготовки педагогов; укрепления педагогических коллективов, отказа от идеологии конкуренции и коммерционализации образования; разработки «дорожных карт» повышения качества общего и профессионального образования; анализа и исправления ошибок в основном и дополнительном образовании последних десятилетий; создания максимально комфортной, насыщенной, полноценной среды развития человека, отвечающей возможностям и достижениям науки, искусства, производства XXI в.; профилактики и коррекции психологических, социальных и иных нарушений в жизни учеников, педагогов, их семей путем направленной поддержки общества и государства; интеграции индивидуального (семейного, репетиторского), основного и дополнительного образования в единую систему, поддерживаемую государством и обществом. Выводы. Образованию России и мира в последние десятилетия был нанесен существенный урон, связанный с деформациями его содержательной, процессуальной и формальной сторон. В итоге перед учеными и педагогами встал ряд задач, связанных с поиском выхода из кризиса. Перспективы исследования задач современного и дополнительного образования связаны с разработкой и апробацией программ преодоления системы деструктивных последствий реформ образования, осуществленных в последние десятилетия.
Основное образование, дополнительное образование, индивидуальные образовательные траектории, стрессы инноваций, самостоятельность субъектов образования, благополучие субъектов образования, социальное неравенство, катастрофа неравенства в образовании
Короткий адрес: https://sciup.org/149142865
IDR: 149142865 | УДК: 159.98+377 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-293-177-185
Текст научной статьи Современные задачи основного и дополнительного образования в России и за рубежом
Scientific and Theoretical Article
UDC 159.98+377 © Gasanova R. R., Voynarovskaya L. I., Huang Ya., 2023
-
5.3.4. Pedagogical Psychology, Psychodiagnostics of Digital Educational Environment
Modern Tasks of Basic and Additional Education in Russia and Abroad
Renata R. Gasanova 1, Candidate of Science in Psychology, senior lecturer at the chair of Management of Education Systems, Faculty of Educational Studies; ;
Lyudmila I. Voynarovskaya 2, Candidate of Science in History, Associate-Professor at the chair of Social Technologies;
;
Introduction. Modern education in Russia and in the world is going through a crisis; it has faced many practically insoluble problems. Two leading problems are as follows: a sharp drop in the level of psychological health and well-being of subjects of education, and actual stoppage of education, which arose due to the fact that many students and trainees could not switch to the regime proposed to them (in fact, the regime of self-education). In addition to the impact of the stress factor, including the stress of an innovative form of education, it is necessary to mention the minimization of the presence of a teacher. In this regard, an important task arises — to restore the content related to character building and discipline, in particular, returning to the systems of building relationships traditional for pedagogy, to the traditional formats of educational and extra-curricular work. The teacher is the most important link and guarantor of the quality of education. The purpose of the study is to analyze the tasks of modern education in Russia and in the world. Results and Discussion. Among the main tasks of modern education are the tasks of restoring the traditions of domestic and world basic and additional education; increasing the prestige of the profession and work of a teacher, improving the quality of training, proficiency and advanced training of teachers; strengthening teaching staff, abandoning the ideology of competitiveness and the commercialization of education; development of "road maps" for improving the quality of general and professional education; analysis and correction of mistakes and failures in basic and additional education in recent decades; creating the most comfortable, rich, full-fledged environment for human development that meets the capabilities and achievements of science, art, and production of the 21st century; prevention and correction of psychological, social and other disorders in the lives of students, teachers, their families, through targeted support of society and the state; integration of individual (family, tutoring), basic and additional education into a single system supported by the state and society. Conclusions. The education in Russia and in the world in recent decades has suffered significant damage related to the deformation of its content, procedural and formal aspects. As a result, scientists and educators faced a number of tasks related to finding a way out of the crisis. The prospects for studying the problems of modern and additional education are connected with the development and testing of programs to overcome the system of destructive consequences of the world education reforms carried out in recent decades.
Citation: Gasanova R. R., Voynarovskaya L. I., Huang Ya. Modern Tasks of Basic and Additional Education in Russia and Abroad. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2023. Vol. 28. No. 2(93). Pp. 177–185 (In Russ.).
Основные положения
-
1. Современное образование России и мира переживает кризис. На сегодняшний день выделились две ведущие проблемы: 1) резкое падение уровня психологического здоровья и благополучия субъектов образования; 2) фактическая остановка образования, возникшая вследствие того, что многие обучающиеся не смогли перейти в предложенный им режим (самообразования), а роль педагога в образовании была минимизирована и искажена. В связи с этим возникают задачи возврата к традиционным, сущностным для педагогики системам построения педагогических отношений, к традиционным форматам и содержанию учебно-воспитательной работы, пересмотра результатов, исправления ошибок проведенных реформ с использованием цифровых и иных в разной мере инновационных технологий и методик для обогащения, но не замены образования. Важно обеспечить формирование и развитие педагогического коллектива и поднять социальный статус профессии педагога и статус образованного человека.
-
2. Реформы и инновации основного и дополнительного образования России и всего мира, особенно интенсивные и многочисленные на протяжении последних десятилетий, поставили перед образованием ряд серьезных проблем, решение которых требует постановки и реализации ряда задач. Одна из первых
-
3. Многие проблемы основного и дополнительного образования в России и в мире часто остаются в тени, их рассмотрение ограничивается иногда малосодержательным анализом нормативных и статистических документов, предназначением которых нередко является скорее сокрытие истины, чем ее обнаружение. Поэтому перед педагогами и исследователями стоит задача понимать происходящее и управлять им, опираясь на более или менее полную ориентировочную основу действий в отношении образования, его проблем и задач в ситуации текущей десакрализации и «инфляции образования», «коррозии» его смыслов
-
4. Намерение решать проблемы, ставить конкретные задачи восстановления образования в нашей стране и в мире пока также еще только формируется: зарубежные исследователи подчеркивают важность возвращения педагогов в школы и вузы, в жизнь учеников, в том числе на уровне персональных репетиторов и тьюторов. Большую роль в этом может сыграть дополнительное образование: и как исследовательская площадка, и как ресурс поддержки основного образования, и как практика и теория «восполняющего», «вытягивающего», корректирующего недостатки и пробелы основного образования. Однако перемены должны коснуться и основного образования, в первую очередь, в контексте возвращения к традиционному пониманию педагогики как практики поддержки развития человека. Необходима разработка и внедрение программ преодоления деструктивных последствий реформ дополнительного и особенно основного образования.
и ведущих задач связана с тем, чтобы «замедлить» кажущийся непрерывным поток инноваций, осмыслить их и дифференцировать на продуктивные и деструктивные, действительно новые и важные и ненужные, неважные. Необходимы профилактика, коррекция и использование стрессов основного и дополнительного образования, включая стрессы инноваций, в целях развития образования и его субъектов. Требуется ценностно-целевое переосмысление образования как института культурной трансмиссии, института заботы старших поколений о младших, их развития как личностей, партнеров и профессионалов, а не института торговли образовательными услугами, ведущего к тотальной коммодификации основного и дополнительного образования.
и ценностей, отраженных в распространившихся сейчас во всем мире форсайтах, «белых книгах» и «манифестах» мирового и отечественного образования, снижения доступности образования до уровня «катастрофы неравенства», нарушений в психическом и социальном здоровье учеников и педагогов средних и высших учебных заведений, падения качества и престижа образования, утери образованием функций социального лифта и бессмысленности профессионального труда как практики, позволяющей самореализоваться и тем более самоактуализироваться.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Современное образование России и мира переживает кризис. То, к чему так долго шли, практически свершилось: благодаря событиям 2020–2022 г. мировое образование практически перешло на дистанционно-цифровой формат. Однако вместо успехов и достижений, даже при условии практически героического труда педагогов, пытавшихся обеспечить предметно-методическую базу дистанционного обучения школьников и студентов, оно столкнулось с множеством почти неразрешимых проблем. На сегодняшний день выделились две ведущие проблемы: 1) резкое падение уровня психологического здоровья и благополучия субъектов образования, 2) фактическая остановка образования, возникшая вследствие того, что многие обучающиеся не смогли перейти в предложенный им режим (по сути, режим самообразования). Помимо воздействия фактора стресса, в том числе стресса инновационной формы образования, нужно упомянуть в качестве основы проблем современного образования минимизацию присутствия в нем педагога [1–4]. В связи с этим возникает важная задача — вернуться к традиционным сущностным для педагогики системам построения педагогических отношений, форматам и содержанию учебно-воспитательной работы, используя цифровые и иные инновационные технологии и методики для обогащения образования, но не его замены.
Постановка задачи исследования. Изучаемой нами проблеме посвящено множество исследований, однако образование — огромный, динамичный институт, на каждом этапе существования которого возникают свои проблемы и задачи. На настоящий момент ведущими задачами мирового образования выступает «возвращение» в школы и вузы, а также в учреждения дополнительного образования педагогов и возрождение базовых смыслов педагогики как института поддержки развития человека как личности, партнера и профессионала [1; 3 и др.].
-
1. Педагог — важнейшее звено и гарант качества образования в дидактическом и воспитательном измерениях. Педагог должен быть возвращен в образование и как важнейшая его составляющая.
-
2. Причем это должно произойти практически буквально: с переходом к контактным формам работы с учениками. Даже «смешанное» (blended learning) обучение не предоставляет возможности качественного образования, поскольку именно «смешивает», а не упорядочивает содержательно-методические аспекты образования. Так, оно не отводит цифровым и нейро-цифровым технологиям того реально необходимого и заслуженного места, которое они должны занимать в обучении детей, подростков и молодежи на разных ступенях образования, являясь одним из важных средств интенсификации обучения, которым педагог может пользоваться.
-
3. И для основного, и для дополнительного образования весьма важной является задача кадров, их профессионализма: в школы, вузы, учреждения дополнительного и общего образования необходимо вернуть профессионалов: образование не должно идти по пути стандартизации, опустошения и снижения требований к качеству, напротив, оно должно двигаться по направлению к интенсификации, индивидуализации и повышению качества, что под силу только высококвалифицированным педагогам.
-
4. Необходимо обеспечить формирование и развитие педагогического коллектива. Отсутствие исследований по данной проблематике в современной науке говорит и о том, что этой проблеме соответствующего внимания не уделялось уже несколько десятилетий. Сплоченность и ценностно-ориентационное единство педагогов не столько поощрялись и осмыслялись как важное условие качества образования, сколько полностью игнорировались. Однако именно сейчас, в период нарастающего отчуждения людей, вопросы коллективов, в том числе профессионально-трудовых, учебных, являются крайне важными и, поскольку актуальное их исследование не осуществлялось, насущ-
- ными и способными привести исследователей к новым открытиям.
-
5. Необходимо поднять статус профессии педагога, а также образованного человека в обществе.
В целом речь идет о том, чтобы вернуться к традиционным моделям педагогики и, пересмотрев результаты проведенных реформ, исправить их ошибки, предотвратив полный крах массового образования.
Цель — анализ наиболее актуальных задач современного основного и дополнительного образования России и мира. Работа содержит теоретическое осмысление задач образования в современном мире. Данное исследование является попыткой реализации системного подхода к изучению задач современного образования России и мира. Практическая значимость исследования объясняется тем, что современное российское и мировое образование требует принятия системных мер преодоления ошибок многочисленных реформ и инноваций. Новизна исследования заключается в анализе задач современного основного и дополнительного образования, вызванных реформами и проблемами, возникшими в связи с ними.
Результаты и обсуждение
Реформы и проблемы основного и дополнительного образования. Реформы и инновации основного и дополнительного образования России и всего мира, особенно интенсивные и многочисленные на протяжении последних десятилетий, породили ряд серьезных проблем, решение которых требует постановки и реализации ряда задач. Одна из первых и ведущих задач связана с тем, чтобы замедлить кажущийся непрерывным поток инноваций, осмыслить их и дифференцировать на продуктивные и деструктивные, действительно новые и важные и ненужные, неважные [5; 6]. Мы согласны с коллегами в том, что необходимы профилактика, коррекция и использование стрессов основного и дополнительного образования, включая стрессы инноваций в целях развития образования и его субъектов. Важно внимательное, критичное отношение к инновациям, в том числе тем, что способствуют развалу сложившейся в стране культуры основного и дополнительного образования, опирающейся на народные традиции и отечественный научный и практический опыт [4]. Необходимо ценностноцелевое переосмысление образования как института культурной трансмиссии, заботы старших поколений о младших, а не института торговли образовательными услугами, ведущего к тотальной коммодификации основного и дополнительного образования [7]. Хотя пропагандируемые российскими и мировыми «форсайт-проектировщиками» современные и даже популярные модели «устойчивого университета», «устойчивой школы» и т. д. утверждают важность и продуктивность «здоровой конкуренции» между школами и вузами разных регионов, стран, профилей подготовки и форм работы, их утверждения не вполне соответствуют реальности [8; 9]. Качество основного и дополнительного образования и само образование напрямую не связаны с конкуренцией, качество связано с целями и ценностями образования, с профессиональными педагогами и способными развиваться учениками, стремящимися к этому и разделяющими такие ценности [10].
Современной педагогике, современным ученикам и педагогам, попавшим в ловушку коммерционали-зации и коммодификации образования, не хватает отношений любви, объединяющей людей в обществе, в том числе в образовании. Среди идей и моделей, имеющих в этом контексте наибольшую значимость, можно выделить многочисленные работы традиционной педагогики, в частности, подготовленные Фр. Шиллером, И.-В. Гёте, Я. А. Коменским, И. Г. Пе-сталоцци, И. Фр. Гербартом, Я. Корчаком, К. П. Победоносцевым, С. А. Рачинским, В. Розановым, Н. А. Бердяевым, В. В. Зеньковским, И. А. Ильиным, В. П. Вахтеровым, К. Н. Ветнцелем, П. Ф. Каптеревым, Л. Н. Толстым, В. А. Сухомлинским, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинским, а также труды Ш. А. Амонашви-ли, И. П. Волкова, Е. Н. Ильина, В. А. Караковского, С. Н. Лысенковой, Л. А. Никитиной, Б. П. Никитина, В. Ф. Шаталова, М. П. Щетинина, выполненные в контексте педагогики сотрудничества, и работы В. Г. Иванова, А. Г. Козловой, М. Л. Лезгиной, В. Г. Ма-ралова, В. А. Ситарова, посвященные педагогике ненасилия. Нужно вспомнить также труды С. Л. Соловейчика, В. И. Андреева, Г. М. и А. Ю. Коджаспировых, А. Г. Асмолова. Многие рассматриваемые в работах указанных авторов вопросы остаются в современных исследованиях забытыми или отодвинутыми на второй план.
Анализ проблем психологии и педагогики отношений в современной средней и высшей школе, в основном и дополнительном образовании нередко замыкается внутренними по отношению к образованию психолого-педагогическими аспектами. Но, как мы полагаем, практика современного основного и дополнительного образования так или иначе обращает внимание исследователей на социальные и этические (духовно-нравственные) аспекты современной педагогики, начиная от проблем образовательной аксиологии [9; 11] и заканчивая проблемами доступности образования [3; 12]. Прежде всего это вопросы, связанные с психологическим анализом причин, проявлений и последствий деформаций образования, его субъектов и отношений между ними, в частности проблемы насилия. Однако при всем стремлении ответить запросам текущей, весьма неблагополучной образовательной реальности, при всей актуальности запроса многочисленные теоретики и практики образования оказываются мало готовы к тому, чтобы оказать реальную помощь в профилактике и коррекции феноменов типа буллинга, самоубийств и колумбайна, в оценке нарушений, возникающих в результате цифровизации, «геймификации», «комиксоизации» основного и дополнительного образования. Это происходит во многом потому, что системы современного образования и наук об образовании современности ограничены идеями консюмеризма, потребительского отношения к человеку и миру. Явная или неявная цель такого рода практик — понизить статус обучающей и учебной деятельности, низвести ее до уровня несамостоятельных, вторичных действий, включенных в другие виды деятельности: хобби и накопительство знаний и умений, спорт и соперничество, отдых и рекреация, в конечном счете к автоматизмам условных и иных рефлексов и(или) к «прямой передаче» данных от компьютера к человеку [2; 13]. Попытки приравнять человека то к животному, то к компьютеру теоретически, как исследовательские метафоры, интерес представляют, но как практики и технологии построения социальных отношений несут исключительно деструктивный смысл неминуемой деградации и (само)уничтожения человека. Инстинктивные программы обучения и воспитания, передачи «знаний и умений» у животных и человека полностью отличны от того системного, направленного, диалогического процесса, каким является образование: многоуровневый и многокомпонентный комплекс практик поддержки развития и полноценного функционирования человека как личности, партнера и профессионала.
Они полностью отличны от тех навыков и компетенций (включая метакогнитивные и метаперсо-нальные), которыми человек, в отличие от животных, владеет и улучшает свою жизнь и жизнь других и которые маркируют факт его развития и человечности: понимание и осознание, взаимопонимание и диалог [1; 2; 14]. Эти компетенции — основные показатели человеческого способа бытия, формируемые и развиваемые именно в образовании, начиная с семейного, домашнего и заканчивая поствузовским, профессиональным. Современное основное и дополнительное образование пытается осмыслить, операционализировать и технологизировать эти реальности, сформировать и развить актуальные модели их наиболее полного, развернутого использования, и вместе с тем оно сталкивается с массовыми попытками уничтожения, подмены образования иными процессами и процедурами, а, значит, попытками уничтожения человека.
Так, трансгуманистические модели «сверхчеловека» или «постчеловека» — одна из наиболее агрессивных сфер имитации образования и связанных с этой задачей проектов, декларирующая возможно- сти развития там и тогда, где и когда имеются факты разрушения человека, образования и всей культуры [2]. Конечно, образование разрушить не так просто, поскольку это огромная, древняя сфера научнопрактической активности и жизни человека, без которой и сам человек ставится под вопрос: возможен ли он, человек ли он? И если в случае отдельного индивида ситуация может быть преодолена, то массовое лишение людей образования ведет к разрушению образования как института культурной трансмиссии. Здесь под вопрос ставится сама культура, а с ней и все человечество.
Тенденции осмысления проблем и задач современного образования. Многие проблемы основного и дополнительного образования в России часто остаются в тени, их рассмотрение ограничивается нередко малосодержательным анализом нормативных и статистических документов, предназначением которых в России и в мире нередко является скорее сокрытие истины, чем ее обнаружение, о чем свидетельствуют многочисленные исследования бюрократических дискурсов и бюрократии в целом [15]. Даже психологический анализ замыкается иногда весьма поверхностными констатациями. Во многих работах такого плана можно усмотреть перечни выполненного и необходимого для совершенствования образования той или иной страны, однако сами «проблемы» остаются нераскрытыми, наполненные смысловой «водой» перечни и проекты — неосуществленными, а понятия, которыми оперируют составляющие проекты и списки бюрократы, — неточно определенными как минимум.
Неточное, широкое и лишенное ведущих признаков определение понятий или описание тех или иных явлений позволяет манипулировать пониманием реальности окружающих людей, в том числе субъектов и «потребителей» образовательных услуг.
Ярким примером является последняя дефиниция «пандемии», скорректированная Всемирной организацией здоровья (далее — ВОЗ) в мае 2009 г. Из определения пандемии ВОЗ были удалены критерии повсеместности, масштабности и новизны: теперь, чтобы объявить пандемию, достаточно небольшой вспышки болезни хотя бы в двух из списка регионов, на которые ВОЗ делит мир. В словарях же и научно-практическом обиходе, в законодательстве и нормативных документах многих стран сохранились традиционное определение и прежние нормативы пандемии как необычайно сильной эпидемии, охватывающей подавляющую часть мира, связанной с прогрессирующим распространением инфекционного заболевания людей, характеризующейся значительно превышающим обычно регистрируемый в мире уровень заболеваемости и способной стать причиной чрезвычайной ситуации.
В отечественной психологии П. Я. Гальпериным предложено понятие неполной ориентировочной основы действий, которая не позволяет ни понять происходящего, ни чему-то научиться [16]. Она загоняет человека в стресс: непонимания, беззащитности, безнадежности. Неполнота — способ случайного или намеренного введения в заблуждение — должна быть педагогом изжита. Самостоятельно или вместе с учениками он должен выстроить максимально полную и подробную ориентировочную основу действий, позволяющую школьнику или студенту освоить то или иное знание или умение. Эта же задача стоит и перед исследователем: понимать происходящее и управлять им можно лишь располагая более или менее полной ориентировочной основой действий в отношении понимаемого или управляемого феномена. В противовес этому бюрократические тексты часто имеют целью избежать понимания, в том числе со стороны ученых, т. е. избежать оценки образовательных систем и их действий как более или менее реальных (продуктивных, эффективных и т. д.). В итоге неудивительно, что многие исследования отечественного образования 2020–2022 гг., проведенные по поводу ситуации в образовании страны в период «объявленной ВОЗ пандемии» атипичной пневмонии, весьма отчетливо демонстрируют данную тенденцию к обобщающему анализу таких документов и программ:
-
— перечисление проблем исследователями нередко сводится к мерам, применяемым Российским государством и иными государствами планеты в целях противостояния, компенсации последствий принятых мер реагирования / реформирования образования;
-
— продолжающаяся реклама дистанционного / цифрового обучения и критика «субъективного» и травматогенного труда находящихся в состоянии более или менее общего и перманентного психологического выгорания и деформации педагогов;
-
— реклама «здоровой» конкуренции между вузами как поставщиками образовательных «услуг» и констатация изменений функций и содержания основного и дополнительного образования (его перерождение в совершенно иной социальный институт);
-
— самоочевидные утверждения о важности повышения качества основного и дополнительного образования без указания реальных путей достижения этих целей;
-
— констатация успешности образования «перед лицом испытаний» на фоне игнорирования тех реальных проблем и порой «катастроф», с которыми столкнулось основное и дополнительное образование;
-
— важность предоставлять ученикам (и их семьям) справляться с проблемами повышения своих компетенций самостоятельно, в том числе на конкурентной основе;
-
— идея совершенствования находящегося в состоянии «катастрофы неравенства образования» [3] не путем радикального пересмотра и отказа от допущенных ошибок, а завершения развала образования с помощью небольших (пошаговых и системно организованных) изменений, в первую очередь, отказа от идеи качества образования и от педагога как субъекта и носителя этого качества [17].
Зарубежные педагоги и психологи как исследователи, даже те, что спонсируются организациями, лоббирующими интересы финансово-промышленных корпораций, относятся к оценке ситуаций в образовании заметно серьезнее. Однако они также склонны игнорировать часть наиболее негативных следствий упомянутой пандемии и иных реформ и псевдоноваций мировых «форсайтов» или стараться использовать их в маркирующих наличие конфликта интересов целях [18].
В противоположность этому культурологические и социологические исследования мира, включая российские, обращают внимание на действительно важные проблемы основного и дополнительного образования, на ту «инфляцию образования», «коррозию» ее смыслов и ценностей, которую можно наблюдать в реальности и которая отражена в других типах документов, например, в распространившихся сейчас во всем мире форсайтах, «белых книгах» и «манифестах» мирового и отечественного образования, выполняемых в рамках директив мировых промышленнофинансовых корпораций.
Коммодификация и новейшие задачи основного и дополнительного образования. Крайняя коммодификация, коммерционализация и прагматизация основного и дополнительного образования, имитация заботы об образовании [7; 14; 19], маскирующие задачи максимизации его доходности, «наживы», симуляция образования под видом «образовательных услуг», резкое упрощение и уплощение образовательных программ, растягивание периода общей и профессиональной (пере)подготовки «на всю жизнь», минимизация с прицелом на полное изъятие из образования отношений, развивающего диалога с педагогом и сверстниками, ограничение доступа к качественному образованию для малоимущих слоев и социальных меньшинств [1; 3] — это далеко не полный перечень действительно важных проблем мирового и российского основного и дополнительного образования. Каждая из этих проблем вызывает комплекс задач, которые необходимо решить, однако на фоне мирового кризиса, затронувшего все страны и сообщества мира, эти проблемы порождают поистине катастрофическую ситуацию.
Ученые и педагоги мира бьют тревогу по поводу резкого, обвального, граничащего с закрытием школ и вузов падения качества образования в 2020–2022 гг., а также снижения доступности образования до уровня
«катастрофы неравенства», появления не менее катастрофических нарушений в психическом и социальном здоровье учеников и педагогов средних и высших учебных заведений [1; 14; 20]. Эти моменты признаются даже учеными, труд которых регулируется финансовопромышленными корпорациями, в том числе через систему надгосударственных структур типа Агентства стратегических инициатив и т. д. [3; 13; 18]. Деструктивная активность этих лобби-организаций активно критикуется за рубежом, но крайне слабо в отечественной науке и политике. Однако педагоги и ученики не только ощущают, но и отвечают на деструктивные новации, в том числе повышением показателей насилия и иных межличностных деформаций в отношениях друг с другом, увеличением личностных нарушений и расстройств (включая личностные деформации, неврозы, состояния депрессии и / или астении, психологическое выгорание) и т. д. Они также отвечают психологическим отчуждением и реальным уходом из вузов и школ. Если ранее, на переломе веков, у россиян вызывала интерес возможность получить несколько высших образований, проявить себя в нескольких областях профессионального труда, то теперь, в начале третьего десятилетия, даже при наличии государственной программы переподготовки для трудоспособного, но безработного населения желание получить образование резко сократилось. Исследователи связывают это с десакрализацией как основного, так и дополнительного образования, падением его качества и престижа, с потерей смысла образования как социального лифта и смысла труда как практики, позволяющей самореализоваться и тем более само-актуализироваться.
Критика образовательных реформ основного и дополнительного образования напрямую связана с тем, что рекламирующие и распространяющие данные реформы надгосударственные структуры в последние десятилетия активно лоббируют интересы финансовопромышленных корпораций, особенно тех, которые занимаются проблемами «жизнеобеспечения» населения и «цифровизации» этой жизни. Не очень различимы, но внушительны на этом фоне голоса исследователей и педагогов, призывающих к переоценке значимости (псевдо)инноваций современности, к бережному и уважительному отношению к традиционной системе воспитания и обучения, той мудрости, которая в ней заложена. На этом фоне достаточно спорными выглядят утверждения о развивающей миссии современного образования, даже неполный перечень проблем современного основного и дополнительного образования России и мира говорит о том, что сложностей и задач здесь больше, чем перспектив и возможностей. Намерение решать эти проблемы, ставить конкретные задачи пока также еще только формируется: зарубежные исследователи, хотя и без какого-либо оптимизма, подчеркивают важность возвращения педагогов в школы и вузы, в жизнь учеников, в том числе на уровне персональных репетиторов и тьюторов [3; 18]. На наш взгляд, огромное значение здесь может иметь дополнительное образование: и как исследовательская площадка, и как ресурс поддержки основного образования, и как практика и теория «восполняющего», бережливого (lean education), корректирующего недостатки и пробелы основного образования [17; 21; 22]. Однако существенные перемены должны коснуться обеих этих областей, в первую очередь в контексте возвращения к традиционному пониманию педагогики как практики поддержки развития человека [1; 7; 13; 14; 21]. Бережливое или восполняющее образование опирается на идеи «уважения к людям» и «постоянного совершенствования» (изменения к лучшему, или «кайдзен») [22–24].
Помимо деклараций, модель бережливого образования Б. Эмилиани [22] выступает лишь версией коммодифицированного образования. Она скорее создает препятствия, чем помогает решить стоящие перед основным и дополнительным образованием задачи. В продолжение линии, заданной «форсайтами» образования, А. Хэмилтон и Дж. Хетти в «Манифесте бережливого образования» [17] настаивают на том, что катастрофическая ситуация в образовании, сложившаяся в 2020–2022 гг., побуждает не к радикальным решениям и отказу от деструктивных реформ, а к изысканию «способов получения большего из меньшего» [17]:
-
1) сократив или прекратив программы базовой подготовки и повышения квалификации учителей и преподавателей, вплоть до отмены необходимости высокой квалификации, ученой степени и званий для педагогов вузов;
-
2) сократив и примитивизировав образовательные программы, чтобы ученики разных возрастов и способностей учились вместе, обучая друг друга;
-
3) удалив «нерентабельные» образовательные форматы и подходы к учебному плану, оптимизировав / сократив образовательные учреждения;
-
4) элиминировав требования качества образования и его нацеленность на конкретный результат.
Последний вывод резюмирует цель «манифеста» и иных «белых книг» и «форсайтов» образования, он прямо противоположен пониманию того, что катастрофические последствия развала или прекращения работы системы образования невозможно исправить небольшими изменениями. Они также прямо противоположны констатациям других исследователей и педагогов, отмечающих важность восстановления традиций, возращения педагогов в школы и вузы, ориентации на высокое качество образования и (пере)подготовки учителей и преподавателей, на индивидуализированную поддержку раз- вития учеников, вплоть до работающих с одним или несколькими учениками тьюторов и репетиторов [1; 3; 21]. Они противоположны представлению о том, что (нейро)цифровые и иные технологии должны разрабатываться на уровне, позволяющем им стать действительной результативной поддержкой, а не заменой образования [1; 2; 19]. Они диаметрально противоположны базовым идеям и смыслам педагогики как института культурной трансмиссии, поддержки развития человека для достижения им вершин самоактуализации и самореализации [1; 7; 14]. Эти изыскания показывают, насколько опасная ситуация сложилась вокруг образования во всем мире [25–27]. Перефразируя общий смысл исследований Д. Азеведо, М. Р. Арпентьевой, Д. В. Евзрезова, Г. К. Жуковой, И. П. Костенко, В. Р. Кучмы, Б. О. Майера, А. Мунро, И. Р. Назаровой, В. С. Сизова, Г. А. Степановой, С. Фауста, О. Н. Четвериковой и многих других, отметим, что возвращение к сущности образования — «единственный путь его возрождения» [14; 19; 28–32]. Отступать, как это предлагают А. Хемилтон и Дж. Хетти, уже некуда и нет времени. Важно, что это понимают и отечественные, и зарубежные педагоги [2–4; 13; 20].
Выводы
Образованию России и мира в последние десятилетия был нанесен существенный урон, связанный с деформациями его содержательной, процессуальной и формальной сторон. В итоге перед учеными и педагогами встал ряд задач, связанных с поиском выхода из кризиса. Образование современности требует принятия системных мер преодоления ошибок многочисленных реформ и инноваций последних десятилетий. Среди самых первых задач мы можем назвать задачи восстановления традиций отечественного образования, а также:
-
— всесторонней заботы государства о поддержке социального статуса и профессионализма педагогов, повышения престижа труда и профессии педагога, качества подготовки, квалификации и переподготовки педагогов, укрепления педагогических коллективов;
-
— отказа от идеологии конкуренции и идей образования как системы «образовательных услуг», возвращения к традиционному пониманию педагогики как института культурной трансмиссии и заботы старших поколений о младших;
-
— разработки «дорожных карт» повышения качества общего и профессионального, основного и дополнительного образования, направленных на формирование и развитие полноценно функционирующего человека;
-
— анализа и исправления ошибок и провалов в основном и дополнительном образовании, допущенных в ходе реформ последних десятилетий;
-
— создания максимально комфортной, насыщенной, полноценной среды развития человека, отвечающей возможностям и достижениям науки, искусства, производства XXI в., профилактики и коррекции психологических, социальных и иных нарушений в жизни учеников, педагогов, их семей путем направленной поддержки общества и государства, формирования и развития у субъектов основного и дополнительного образования отношений взаимопомощи, сотрудничества;
-
— интеграции индивидуального (семейного, репетиторского), основного и дополнительного образования в единую систему, поддерживаемую государством и обществом.
Перспективы исследования задач современного и дополнительного образования связаны с разработкой и апробацией программ преодоления системы деструктивных последствий реформ мирового образования, осуществленных в последние десятилетия.
Список литературы Современные задачи основного и дополнительного образования в России и за рубежом
- Арпентьева М. Р., Гайдар К. М., Кунаковская Л. А. Стресс инноваций в образовании // Профессиональное образование в современном мире. 2020. Т. 10, № 4. С. 4331-4346.
- Информатизация общества: социологический анализ / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2016. 320 с.
- Azevedo J. P., Gutierrez M., de Hoyos R., Saavedra J. The Unequal Impacts of COVID-19 on Student Learning. Primary and Secondary Education During Covid-19 / Reimers F. M. (eds.). Cham: Springer, 2022. Рр. 421-459. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4_16.
- Kosaretsky S., Zair-Bek S., Kersha Y., Zvyagintsev R. General Education in Russia During COVID-19: Readiness, Policy Response, and Lessons Learned. Primary and Secondary Education During Covid-19 / Reimers F. M. (eds.). Cham: Springer, 2022. Рр. 227-261. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4_9.
- Munro A. P., & Faust S. N. Children are not COVID-19 super spreaders: Time to go back to school. Archives of Disease in Childhood. 2020. Vol. 105(7). P^ 618-619.
- Sergeeva M. G. Design of educational trajectory of students in the conditions of sociocultural educational environment. Nauchnoe Obrazovanie. 2019. Vol. 1(2). Рр. 6-14.
- Арпентьева М. Р., Тащёва А. И., Гриднева С. В. Коммодификация образования: процессы и результаты // Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9, № 1. С. 2406-2420.
- Иванова Н. Г., Порубайко Л. Н., Доронцев А. В., Давудов Т. С., Рудева Т. В. Преобразования на пути становления современной системы профессионального образования: проблемы и пути их решения // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2021. № 3(193). С. 135-141.
- Yatsenko M. P., Melnikova T. V., Leopa A. V., Gorodishcheva A. N., Stumpf S. P., & Rakhinsky D. V. Sustainable development and perspectives of universalistic trends in the modern world. Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7, No. 3. Pp. 212-222.
- Гаврильева Т. Н., Сугимото А., Фуджи М., Яманака Р., Павлов Г. Н., Кириллин Д. А. Устойчивое развитие университетов: мировые и российские практики // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 7. С. 52-65. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-7-52-65.
- Гасанова Р. Р. К проблеме интенсификации дополнительного образования: проектирование, реализация, рефлексия и коррекция персональных траекторий образования будущих педагогов // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 2. С. 139-146.
- Калачев А. В. Проблема доступности образования в современной России // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2021. № 5(158). С. 17-21.
- Жукова Г. К. Сага о Форсайте, или Об идолах Global Education в российском образовании // Избранные аналитические материалы СПб РИАЦ Российского центра стратегических исследований / мд ред. А. А. Колесникова. СПб., 2016. С. 33-66.
- Четверикова О. Н. «Цифровая школа» как приговор образованию в России // Объединительное движение «Встань за веру, Русская земля». 31.07.2018. С. 1-2. URL: https://vstanzaveru.ru/chetverikova-on-tsifrovaya-shkola-kak-prigovor-obrazovaniyu-v-rossii/ https://vstanzaveru.ru/chetverikova-on-tsifrovaya-shkola-kak-prigovor-traditsionnomu-obrazovaniy v-rossii-chast-2 / (дата обращения: 21.11.2021).
- Арпентьева М. Р., Горелова И. В. Эвергетика и проблемы интерсубъективного управления: человеческий и социальный капитал / под ред. М. Р. Арпентьевой. Канада, Торонто, 2018. 290 с.
- Haenen J. P. Gal'perin: Psychologist in Vygotsky's footsteps. Commack, N.-Y.: Nova Science Publishers, 1996. 267 p.
- Hamilton A. and Hattie J. The Lean Education Manifesto: A Synthesis of 900+ Systematic Reviews for Visible Learning in Developing Countries. N.-Y., 2022. 300 p.
- UNICEF. The State of the World's Children 2021. Interactive dashboard and statistical tables. UNICEF. October 2021. Р. 1. URL: https://data.unicef.org/resources/sowc-2021-dashboard-and-tables/ (accessed: 12.12.2021).
- Степанова Г. А., Демчук А. В., Арпентьева М. Р. Цифровизация и проблемы современного российского образования // Гуманитарные науки. 2021. № 3(55). С. 16-27.
- Кучма В. Р., Седова А. С., Степанова М. И., Рапопорт И. К., Поленова М. А., Соколова С. Б., Александрова И. Э., Чубаров-ский В. В. Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2020. № 2. С. 4-23.
- Костенко И. П. Возвращение к традиции — единственный путь возрождения образования в России // Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России: мат-лы конф. в рамках Всероссийского родительского съезда «Будущее России» 22 мая 2021 г., Москва. М., 2021. URL: Regnum.ru. 2021. 19 июня. С. 1. https://regnum.ru/ news/3299413.html (дата обращения: 10.10.2021).
- Emiliani B. Lean Teaching: A Guide to Becoming a Better Teacher. N.-Y., 2015. 146 p.
- Balzer W. K. Lean Higher Education: Increasing the Value and Performance of University Processes. N.-Y., 2020. 575 p.
- Global Lean for Higher Education, A Themed Anthology of Case Studies, Approaches, and Tools / Yorkstone, S. (ed.). London, 2019. 450 p.
- Carvalho A. A., Flumerfelt S., Kahlen F. J. Conclusions and New Developments. Lean Education: An Overview of Current Issues. Cham, 2017. Pp. 177-179. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45830-4_11.
- LeMahieu P. G., Nordstrum L. E., Greco P. Lean for Education. Quality Assurance in Education: An International Perspective. 2017. Vol. 25, No. 1. Special Issue: Working to improve: seven approaches to quality improvement in education / Guest eds. P. G. LeMahieu, A. S. Bryk. Рp. 74-90.
- Vukadinovic S., Djapan M., Macuzic I. Education for lean & lean for education: A literature review. International Journal for Quality Research. 2017. Vol. 11. Pp. 35-50. https://doi.org/10.18421/IJQR11.01-03.
- Арпентьева М. Р. Форсайт образования: «человек служебный» и «человек этический» как цели образования XXI века // Форсайт образования: ценности, модели и технологии дидактической коммуникации XXI века: коллективная монография / под ред. М. Р. Арпентьевой. Торонто, 2018. С. 12-21.
- Евзрезов Д. В., Майер Б. О. Об онтологии и эпистемологии форсайтов «Образование 2030» и «Компетенции 2030» // Философия образования. 2014. № 2. С. 74-99.
- Назарова И. Р. Форсайт в исследованиях будущего российского образования // Высшее образование в России. 2014. № 7. С. 22-29.
- Сизов В. С. Форсайт-исследование системы образования России // Экономика образования. 2015. № 2. С. 73-80.
- Хало П. В. Анализ перспективности отечественного форсайт-проекта образования и возможности его методологического и технического обеспечения // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2018. № 2. С. 109-117.