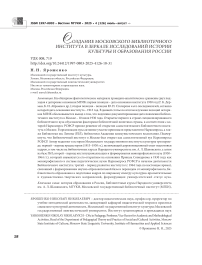Создание Московского библиотечного института в зеркале исследований истории культуры и образования России
Автор: Ярошенко Н.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: К 95-летнему юбилею Московского государственного института культуры
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
На обширном фактологическом материале проведено аналитическое сравнение двух подходов к датировке основания МГИК: первая позиция – дата основания института 1930 год (Г. К. Дерман, К. И. Абрамов и др.); вторая позиция – позиция Ю. Н. Столярова и его последователей, согласно которой дата основания института – 1913 год. В данной статье по итогам изучения позиций историков МГИК обосновывается вывод о том, что подлинно документированная дата появления Библиотечного института в Москве – 10 июля 1930 года. Открытие первого в стране специализированного библиотечного вуза обусловлено факторами библиотечной политики страны, в соответствии с которой Наркомпрос РСФСР принял решение об открытии самостоятельного Библиотечного института в Москве. В организации вуза активное участие принимали представители Наркомпроса, а также Библиотеки им. Ленина (ГБЛ), библиотеки Академии коммунистического воспитания. Подчеркнуто, что Библиотечный институт в Москве был открыт как самостоятельный вуз Наркомпроса РСФСР. Автор выделяет в истории Московского государственного института культуры три периода: первый – период предыстории (1913–1930 гг.), включающий дореволюционный опыт подготовки кадров, в том числе на библиотечных курсах Народного университета им. А. Л. Шанявского, а затем на базе ГБЛ; второй – период институционализации и формирования монопрофильного вуза (1930– 1964 гг.), который знаменуется его открытием на основании Приказа Совнаркома в 1930 году как монопрофильного в системе педагогических вузов Наркомпроса РСФСР и началом деятельности Библиотечного института; третий – период развития института (с 1964 года по настоящее время), связанный с формированием научно-образовательной базы и переходом от монопрофильного, библиотечного образования к подготовке кадров по широкому спектру культурно-просветительных и художественно-творческих направлений, формирующих университетский статус вуза.
История образования в России, Библиотечные курсы Народного университета им. А. Л. Шанявского, МГУКИ, Московский государственный библиотечный институт (МГБИ), Московский государственный институт культуры (МГИК), Наркомпрос РСФСР, Хавкина Л. Б., Дерман Г. К., Абрамов К. И., Столяров Ю. Н.
Короткий адрес: https://sciup.org/144163525
IDR: 144163525 | УДК: 008, 719 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-18-31
Текст научной статьи Создание Московского библиотечного института в зеркале исследований истории культуры и образования России
В год празднования очередного, 95-летнего, юбилея Московского государственного института культуры особенно ярко раскрывается его славная история, которая неразрывно связана с историей нашей страны, важнейшими вехами и событиями в российской культуре.
В почти вековой ретроспективе отчетливо видно, как небольшой и узкоспециализированный институт вырос в многопрофильное учебное заведение, настоящий Университет, в котором формируется кадровый потенциал отечественной культуры. Не случайно возник девиз нашего вуза: «Творим Историю, Культуру, Россию!».
МГИК действительно включен в историю России, поскольку воспитывает поколение за поколением российской интеллигенции, работников культуры, самоотверженно сохраняющих и развивающих культуру страны.
Когда перечитываешь труды историков, воспоминания современников, перелистываешь документы эпохи, возникает четкое представление о своевременности и безусловной оправданности появления Московского библиотечного института.
История самого института, имевшего несколько названий, стала предметом научного изучения, которому посвящены работы первых историков нашего вуза (Г. К. Дерман, И. Г. Семенычев, Ф. И. Каратыгин, В. Е. Васильченко, К. П. Бельский, О. Ушакова), а затем – историков библиотечного дела К. И. Абрамова, Э. К. Беспаловой, М. И. Глазкова, П. С. Сокова, Т. Ф. Каратыгиной, В. Т. Клапиюка, А. М. Мазурицкого, Ю. Н. Столярова, а также исследователей истории культурно-просветительной работы Л. А. Акимовой, В. З. Дуликова, Е. М. Клюско и многих других ученых.
Автор данной статьи поставил перед собой задачу отыскать и просмотреть все документы, на которые ранее ссылались предшественники.
Сегодня можно уже говорить о сформировавшейся историографии МГИК, в которой достойно представлены не только обобщаю- щие труды (такие как «История Московского государственного университета культуры и искусств (1930–1941 гг.)» [1], ставшая последней книгой выдающегося библиотековеда России, доктора педагогических наук, профессора Константина Ивановича Абрамова), но и целый ряд других оригинальных и содержательных научных публикаций, посвященных отдельных этапам истории вуза и направлениям его деятельности.
Здесь, конечно же, нужно упомянуть работы кандидата педагогических наук, профессора Владимира Трофимовича Клапиюка, который с большой любовью и тщательностью изучал историю МГБИ в годы Великой Отечественной войны, обобщил юбилейные даты института [8; 10; 11; и др.]. Кандидат педагогических наук, профессор Петр Сергеевич Соков много внимания уделил формированию музея МГИК и детально изучал вклад института в развитие высшего библиотечноинформационного образования в России [18]. Кандидат педагогических наук, профессор Вячеслав Захарович Дуликов, глубоко представил в своих публикациях становление социокультурного образования [7], деятельность института в 1970–1990-е годы [6].
Особую группу работ, посвящённых истории вуза, в последние годы жизни опубликовал выдающийся отечественной ученый, доктор педагогических наук, профессор Юрий Николаевич Столяров [19; 20; 21; 22; 23 и др.]. Он актуализировал вопросы, связанные с историей института, придал им дискуссионный импульс, и сегодня призывающий исследователей изучать историю возникновения вуза с уточнением датировки этого события.
Собственно говоря, цель данной статьи как раз и состоит в том, чтобы и на основе сохранившейся документной базы прояснить события, связанные с открытием Библиотечного института в Москве. Эта цель также приводит нас к необходимости сопоставить и аналитически рассмотреть различающиеся интерпретации и концепции историков МГИК, которые в разные годы выстраива- ли подчас взаимоисключающие гипотезы возникновения нашего института, наиболее известная из которых принадлежит Юрию Николаевичу Столярову.
Многим из ныне работающих в институте хорошо запомнился момент, когда в апреле 2019 года на общем собрании коллектива вуза после доклада Ю. Н. Столярова путем открытого голосования было принято решение считать годом основания МГИК 1913 год, и наш вуз одномоментно «состарился» как минимум на 17 лет. Сидевший рядом со мной на этом заседании историк библиотечного дела профессор М. Н. Глазков, кстати, проголосовавший против этого решения, иронично подметил, что «при таком подходе начало нашего вуза можно довести до Киево-Могилянской академии или еще глубже». История непрерывна и все её события имеют основания и истоки.
И все-таки с позиции исторической науки датировку необходимо вести не с предварительных обстоятельств, а с непосредственного момента совершения события. Постараемся применить этот принцип к исследованию момента создания нашего вуза.
Вопрос датировки основания МБИ
Судя по имеющейся литературе, вопрос о датировке создания Московского государственного института культуры имеет несколько вариантов ответа. В данной статье мы ставим задачу сравнить фактологическую базу и выводы, полученные, с одной стороны, приверженцами датировки появления Московского библиотечного института в 1930 году (непосредственный участник событий Г. К. Дерман и др., а также их последователи – историки К. И. Абрамов, М. И. Глазков и др.), а с другой – сторонниками идеи создания вуза в 1913 года (Ю. Н. Столяров и его последователи В. Т. Клапиюк, В. З. Ду-ликов и другие).
Рассмотрим доводы сторонников обоих подходов.
Первый подход , который не оспаривался и не подвергался сомнению на протяжении девяти десятилетий, основывается на документально подтвержденном факте – Приказе Совнаркома 1930 года, от которого идет начало истории МГИК.
Эта позиция представлена в целом ряде публикаций историков и достаточно аргументирована в работах К. И. Абрамова. В его статьях и специальной работе, посвященной история вуза с момента создания в 1930 году до начала Великой Отечественной войны [1], выстраивается следующая историческая линия:
– в молодом советском государстве, активно вставшем на путь модернизации, возникла большая потребность в развитии библиотечного обслуживания и в подготовке достаточного числа библиотечных кадров;
– в государственных органах управления образованием (Наркомпрос и его отделы – Главполитпросвет и Главнаука) разрабатывается идея открыть «самостоятельный библиотечный вуз в Москве или Ленинграде» [1, с. 30];
– инициаторами создания нового вуза выступают в Главполитпросвете – Центральная библиотечная комиссия во главе с М. А. Смушковой, а в Главнауке – Библиотечная комиссия во главе с Г. К. Дерман;
– после активных дискуссий о подходе к формированию учебных планов будущего библиотечного вуза, в мае 1930 года, Коллегия Наркомпроса и новый нарком просвещения А. С. Бубнов (напомним, что А. В. Луначарский прекратил исполнять обязанности наркома просвещения РСФСР в сентябре 1929 года) принимают решение о создании библиотечных вузов в стране и открытии первого из них – в Москве;
– и, наконец, после длительного противостояния Наркомпроса с Совнаркомом (орган государственного управления, фактически исполнявший функции Правительства РСФСР) 30 апреля
1930 года удалось достичь соглашения, результатом которого стало включение библиотечного института в сеть вузов на 1930/1931 учебный год (Постановление Совнаркома 10 июля 1930 года) [1, с. 39–40].
Вот так вкратце можно изложить первую версию. Подчеркнем, что вся аргументация, которую использовал профессор К. И. Абрамов, также была перепроверена нами: все источники, которые оказались доступны, были просмотрены и верифицированы, это публикации в советских журналах, официальные документы эпохи. Однако достаточно большая часть источников, на которые ссылался К. И. Абрамов, на данный момент утрачена. Речь идет о так называемом «Архиве научной библиотеки МГУКИ», который, по воспоминаниям профессора В. З. Дуликова, в июне 1998 года был утрачен: после небывалого ливня и протечки крыши научного читального зала эта часть фонда оказалась залита и испорчена водой, а затем утилизирована. Трудно сказать, какие материалы хранились в делах, по которым даны важнейшие цитаты, связанные с открытием нашего вуза; скорее всего это были копии документов из государственных архивов, в которых запечатлелись фонды Нар-компроса. Именно эти документы еще предстоит найти и изучить в Государственном архиве Российской Федерации.
Критики данного подхода указывают на то, что данная периодизация не учитывает дореволюционный период, в ходе которого формировалась система библиотечного образования, а также – роль главной библиотеки страны и ее руководства в создании нашего вуза. Также указывалось на то, что многие фамилии реальных участников событий, связанных с открытием нашего вуза, замалчивались по идеологическим причинам. Речь идет, прежде всего, о Л. Б. Хавкиной, стоявшей у истоков библиотечного образования, и В. И. Невском, который был директором Государственной библиотеки СССР им. Ленина в период создания Библиотечного института в Москве.
Второй подход. Основным оппонентом документально подтвержденного факта основания нашего института в 1930 году стала позиция профессора Ю. Н. Столярова, в основу которой положена идея преодоления мифа, «будто наш институт возник сам по себе, без предварительной подготовки и проработки вопроса, без какой бы то ни было связи с Ленинской библиотекой и Институтом библиотековедения» [21, с. 18]. Между тем связь основания в Москве Библиотечного института с деятельностью главной библиотеки страны никто и никогда не оспаривал. Более того, МГИК гордится, что был открыт в одном из зданий Государственной библиотеки им. Ленина (ГБЛ) (ныне РГБ) на улице Моховой, в самом центре Москвы.
Отдавая дань уважения Юрию Николаевичу Столярову как одному из ведущих профессоров нашего института (теперь уже точно можно сказать – классику библиотечной науки России), постараемся соотнести его позицию по вопросу открытия МБИ с рядом мнений и оценок других ученых, а также – с документами эпохи.
Позиция Ю. Н. Столярова для всех стала неожиданностью. Да и сам автор признавался, что «поставить под сомнение правомерность даты основания Института мне, как и прочим, не приходило в голову» [21, с. 11]. В ходе своего исследования он тщательно собрал архивные материалы, свидетельства современников и другие документы, чтобы максимально точно воссоздать цепь событий, предопределивших появление первого в стране библиотечного вуза. Впервые свою версию открытия Библиотечного института в Москве Юрий Николаевич опубликовал в журнале «Университетская книга» в 2007 году, в 2013 году в развернутом виде представил в статье «Столетие библиотечного образования в СНГ и республиках ближнего зарубежья» [22], а затем – в ряде других публикаций [23].
Гипотеза Ю. Н. Столярова, на наш взгляд, состояла в том, что развитие библиотечного образования в России – это непрерывный процесс, в ходе которого одни формы переходили в другие, что закономерно привело к появлению библиотечного вуза. При этом линия событий, по версии Ю. Н. Столярова, такова:
– история возникновения Московского государственного института культуры восходит к дореволюционному внешкольному образованию и связана с деятельностью Народного университета им. А. Л. Шанявского в Москве, в структуре которого 28 января 1913 года были открыты Библиотечные курсы под руководством Л. Б. Хавкиной;
– после упразднения в 1918 году Народного университета Библиотечные курсы были переведены во вновь учрежденный Московский институт внешкольного образования, а Л. Б. Хавкина была назначена деканом библиотечного отделения;
– в 1922 году курсы были присоединены к Румянцевскому музею (ныне Российская государственная библиотека) в виде Кабинета библиотековедения под руководством Л. Б. Хавкиной;
– с 1922 года по 1936 год Библиотечные курсы существовали в составе Ленинской библиотеки: с 1922 года по 1924 год под именем Кабинета библиотековедения, с 1924 года по 1930 год под названием Института библиотековедения, а с 1930 года по 1936 год – как Московский библиотечный институт. В 1936 году происходит полное и окончательное отделение института от Ленинской библиотеки. Такова вторая версия создания МГИК.
Начальная часть этой периодизации обоснована документально и может быть рассмотрена как исток всего библиотечного образования в нашей стране (что, кстати, весьма удачно нашло отражение в названии статьи, в которой была представлена версия истории МГИК Ю. Н. Столярова [22]).
Связь библиотечного образования России с деятельностью Л. Б. Хавкиной и би- блиотечных курсов Народного университета Шанявского является общепризнанной. Однако не выдерживает критики утверждение Ю. Н. Столярова о непрерывном преобразовании кабинета библиотековедения ГБЛ в Институт библиотековедения, а затем – в Московский библиотечный институт. Это ключевой момент второго подхода: «По мнению Ю. Н. Столярова, Московский библиотечный институт явился прямым восприемником Института библиотековедения» [9, с. 134].
Да, Ю. Н. Столяров правильно описывает момент становления Института библиотековедения: «12 февраля 1924 года Кабинет библиотековедения был реорганизован в Институт библиотековедения, находящийся в ведении Главнауки, но функционирующий в структуре Библиотеки. В 1925/1926 учебном году был произведён набор на двухгодичные курсы по библиотечному делу для научных библиотек» [21, с. 13]. А вот в части, где описан период с 1922 по 1936 год, фактически профессор Ю. Н. Столяров допустил неточность, указав на то, что предшественник вуза существовал «с 1924 года по 1930 год под названием Института библиотековедения, а с 1930 года по 1936 год – как Московский библиотечный институт». Это неверное утверждение, которое не подтверждается и, следовательно, ставит под сомнение всю аргументацию данной версии истории МГИК.
Рассмотрим детально, как связаны между собой Институт библиотековедения и Московский библиотечный институт. Вот что написано об Институте библиотековедения в фундаментальной «Библиотечной энциклопедии»: «Институт Библиотековедения государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (название с 1925), исследовательское и педагогическое учреждение, занимавшееся изучением теоретических и практических проблем советского и зарубежного библиотечного дела, подготовкой квалифицированных кадров. Образован как Институт библиотековедения Публич- ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в ноябре 1924 на базе Кабинета библиотековедения библиотеки и до марта 1934 входил в её структуру. Первым директором института (до окт. 1928) была Л. Б. Хавкина» [5, с. 409]. Всё это описывает и Юрий Николаевич Столяров. Однако читаем далее: «В 1934 институт был выделен из структуры ГБЛ и преобразован в самостоятельное научноисследовательское учреждение. <^ > В 1940 институт был реорганизован в Центральный научно-методический кабинет Наркомпроса РСФСР» [5, с. 410]. Как это могло произойти, если в 1930-м он, то есть Институт библиотековедения, «превратился» в МБИ?
Через десять лет после открытия Библиотечного института, в преамбуле Плана научно-исследовательской работы МГБИ на 1940/41 учебный год, который подписали директор института П. С. Бенюх и зам. директора по научно-исследовательской части К. П. Бельский, отмечено, что «передача институту всей научно-исследовательской работы в области библиотековедения, осуществлявшейся ранее бывшим Научноисследовательским институтом библиотековедения и рекомендательной библиографии, фактически превращает МГБИ в центр всей научно-исследовательской работы в области библиотековедения» [16, с. 1]. То есть Институт библиотековедения прекратил свое существование в 1940 году, и об этом было хорошо известно. С этого момента в МГБИ сосредотачивается вся научно-исследовательская работа в области библиотековедения, подготовка аспирантов, деятельность диссертационного совета.
Вот именно здесь версия профессора Ю. Н. Столярова расходится с фактами: в 1930 году Институт библиотековедения ГБЛ им. Ленина никогда не преобразовывался в Московский библиотечный институт. Таким образом, Институт библиотековедения – это структурное подразделение Ленинской библиотеки (ГБЛ), а Библиотечный институт – это самостоятельная институция, которая была размещена на площадях (как писала Г. К. Дерман – на «производственной базе») главной библиотеки страны. И сосуществовали оба эти института в одно время и в одном и том же здании. Подтверждением этого, например, служит выпуск журнала «Красный библиотекарь» № 7 за 1930 год. В этом номере одновременно опубликованы статьи директоров двух этих институтов: статья А. Г. Кравченко «Институт библиотековедения и его основные задачи в текущем году» [12] и статья Г. К. Дерман «Московский библиотечный институт» [4].
Институт библиотековедения не останавливал свою работу и не выполнял функции образовательной организации. В его задачи входила организация библиотечных исследований, методическая и организационная работа. «Институт библиотековедения извещает все библиотеки и библиотечных работников, что он дает письменные и устные консультации по вопросам организации, методики и техники библиотечного дела. Письменные запросы адресовать: Москва, Моховая 6. Институт библиотековедения» – это анонс из этого же выпуска журнала «Красный библиотекарь» № 7 за 1931 год [12, с. 41]. В штате института библиотековедения в этот период работали 15 сотрудников.
В этом же здании на ул. Моховая, 6 работали Библиотечные курсы, которые фактически были одним из направлений деятельности Института библиотековедения [5]. Эти курсы назывались полностью так: Высшие вечерние библиографические курсы. На курсах «слушателям преподавались библиотековедческие, библиографо-ведческие и книговедческие дисциплины, а также английский и немецкий языки. На курсы зачислялись сотрудники библиотек, имевшие среднее или высшее не библиотечное образование. После создания в 1930 Московского библиотечного института (ныне Московский государственный университет культуры и искусств) библиотечные курсы были упразднены» [12, с. 41].
Первый директор МБИ Г. К. Дерман, отмечала затруднения хозяйственного порядка в первый год работы Библиотечного института: «Бедственное положение с помещением (для дневных занятий вуза были отведены три аудитории в небольшом здании, занимаемом Институтом библиотековедения; вечером эти аудитории заняты вечерними курсами), отсутствие помещений для учебных кабинетов и лабораторий для организации учебной библиотеки; МБИ приходилось пользоваться библиотекой Института библиотековедения, которая помещается в небольшой комнате. До января не было у МБИ телефона, стеклографа для размножения заданий, до сего дня нет еще своей пишущей машинки» [4, с. 42]. Из этого фрагмента мы узнаем важные моменты: Институт библиотековедения и его Библиотечные курсы не «превратились» в Московский библиотечный институт, а существовали самостоятельно и продолжили работать после его создания.
Таким образом, документально не подтверждается гипотеза Ю. Н. Столярова «о преобразовании Института библиотековедения в Московский библиотечный институт» как о поворотном событии в истории нашего вуза. У Института библиотековедения была собственная история, которая лишь на одном небольшом временном отрезке пересеклась с историей нового Библиотечного института.
Продолжая анализ позиции Ю. Н. Столярова, считаем необходимым отметить еще один существенный момент: у этих двух институтов было разное подчинение. Институт библиотековедения входил в состав ГБЛ и подчинялся его дирекции во главе с В. И. Невским, а Московский библиотечный институт напрямую подчинен был Нарком-просу, что еще раз подчеркивает самостоятельность нашего вуза и организационную независимость в момент образования.
Ю. Н. Столяров неоднократно цитирует стенограмму совещания [17], срочно проведенного по инициативе Наркомпроса РСФСР через два дня после выхода постановления Совнаркома, в котором впервые отмечен Библиотечный институт. В работе совещании приняли участие выдающиеся библиотечные деятели – Г. К. Дерман в качестве директора Библиотеки Коммунистической Академии, М. И. Рудомино в качестве представителя Главнауки Наркомпроса РСФСР, В. И. Невский – директор Ленинской Библиотеки, Е. Д. Соколова – директор Института Библиотековедения и другие. Однако из этой стенограммы Ю. Н. Столяров почему-то приводит не все доводы участников и не цитирует общий вывод о том, что «совещание в составе представителей сектора науки и сектора массовой и политпросвет работы НКП, Ленинской библиотеки, библиотечной комиссии сектора науки НКП выдвигает кандидатуру т. А. Г. Кравченко на пост директора организуемого НКП библиотечного ВУЗа с введением т. Кравченки в Правление Ленинской Библиотеки» [17, л. 3]. Для понимания расшифруем: НКП – это Народный Комиссариат Просвещения, он же – Наркомпрос РСФСР.
И хотя совещание было важным для судьбы нашего вуза, его решения носили рекомендательный характер, поскольку все решения по созданию Библиотечного института в Москве принимались Наркомпросом РСФСР и курировались непосредственно его сектором науки, как и все другие вузы молодого Советского государства.
Импульс к созданию Библиотечного института был дан широкой дискуссией об идеологической сущности советских библиотек, которую инициировали профсоюзы, затем откликнулся Наркомпрос РСФСР [13] и, наконец, ЦК ВКП (б), принявший 30 октября 1929 года Постановление «Об улучшении библиотечной работы» [14]. В этих документах не только признается «состояние библиотечного дела неудовлетворительным, резко отстающим от культурного роста масс рабочих и крестьян и задач социалистической реконструкции народного хозяйства» [14], но и отмечается «продолжающая иметь место низкая квалификация библиотечных работников» [13]. Усилившееся внимание
L
к библиотекам потребовало срочных мер в совершенствовании системы подготовки библиотечных кадров.
С этого момента идея создания в Москве библиотечного вуза становится предметом обсуждения в профессиональной среде, поскольку в отличие от Петрограда вузовская подготовка библиотечных кадров в Москве не велась. В Петрограде же с 1918 года действовало библиотечное отделение (факультет) в Петроградском институте внешкольного образования (ПИВО).
Г. К. Дерман отмечала, что решение о создании Библиотечного института было хотя и очень желанным, но появилось очень для всех неожиданно. «Не без труда было достигнуто разрешение самостоятельного библиотечного вуза и не без труда прошел организационный период вуза, – отмечала наш первый директор. – После того как в Совнаркоме было отказано в создании самостоятельного вуза и было предложено организовать при Педагогическом институте им. Герцена в Ленинграде библиотечное отделение, Постановление от 10 июля [1930 года] об организации самостоятельного вуза в Москве на производственной базе Всесоюзной библиотеки им. Ленина было неожиданным. Никакой подготовительной работы не было проделано, и только после назначения в августе директора МБИ было приступлено к организации приема студентов и к подготовительным работам для открытия вуза 1 октября 1930 г.» [4, с. 42].
Из наиболее ранних документов о создании Московского библиотечного института следует назвать статью, опубликованную первым ректором Генриеттой Карловной Дерман в сентябрьском номере журнала «Красный библиотекарь» за 1930 год. В этом источнике дается датировка 10 июля 1930 года: «Московский библиотечный институт, организованный согласно постановлению Совнаркома РСФСР от 10/VII-1930 г. о сети вузов на 1930/31 г., объявляет прием на 1 курс 1930/31 уч. года» [3, с. 18].
Через десять лет ректор МГБИ П. С. Бенюх странным образом дату меняет на 7 июля 1930 года. В 1940 году передовая статья юбилейного выпуска вузовской газеты «Библиотечный авангард», которую написал директор МГБИ П. С. Бенюх, открывалась такими словами: «7-го июля 1930 года Советское правительство вынесло специальное постановление об организации в Советском Союзе специального высшего библиотечного учебного заведения – Московского Государственного Библиотечного Института! Нигде в мире не было и нет – в подлинном смысле этого слова – высшего библиотечного образования. Это первый библиотечный вуз не только в нашей стране, но и во всем мире» [2, с. 1]. Скорее всего, в данной статье допущена опечатка в дате, поскольку нигде больше «7 июля» не встречается.
Оба источника указывают на одно и то же событие – выход официального документа, в котором впервые упомянут МБИ. Однако в обоих случаях имеются неточности, которые затрудняют понимание и верификацию момента создания нашего института. Отметим, что и все последующие авторы ссылаются именно на статью Г. К. Дерман, но не на исходный текст документа, что подтверждается использованием неполного и неточного названия Постановления, заимствованного из статьи Генриетты Карловны. (Потребовались определенные усилия, чтобы отыскать полный текст первоисточника, в котором опубликовано Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР, упомянутое у Г. К. Дерман как «постановление Совнаркома РСФСР» и у П. С. Бенюха как «специальное постановление», которое вынесло «Советское правительство»). Полное наименование этого документа: «О сети, структуре и контингенте приема учащихся в высшие учебные заведения РСФСР на 1930/31 год. Пост. СНК от 10 июля 1930 г.» [15]. Отметим, что в указанном Постановлении СНК РСФСР от 10 июля 1930 года нет упоминания о Всесоюзной библиотеке им. Ленина, предоставившей производственную базу новому вузу.
Таким образом, в 1930-м году был создан всё-таки «самостоятельный вуз». При этом абсолютно достоверным является указание Юрия Николаевича Столярова на связь с Ленинкой (ГБЛ) как с производственной базой обучения будущих библиотекарей. Однако это не определяет статус вновь создаваемого института.
Если же обратиться к Постановлению СНК от 10 июля 1930 года «О сети, структуре и контингенте приема учащихся в высшие учебные заведения РСФСР на 1930/31 год» [15], то статус вуза в нем четко определяется. В данном Постановлении СНК установил сеть и цифры приема на новый учебный год. Здесь впервые указан наш вуз, для которого установлен был план набора в 100 человек. В разделе «Педагогические вузы Наркомпро-са» под номером 35 указан «Библиотечный ин-т в Москве» [15, с. 515]. Это и есть первое название нашего института. Из этого следуют три важных вывода:
-
• вывод первый: статус нашего вуза при открытии – самостоятельный вуз в системе вузов Наркомпроса , отнесенных к категории педагогических вузов;
-
• вывод второй: Библиотечный институт в Москве – это первое официальное название нашего вуза, который уже позднее будет именоваться Московский библиотечный институт;
-
• третий вывод: дата 10 июля 1930 года – это первое упоминание нового вуза в документе, официально утвердившем его статус в общей системе высших учебных заведениях РСФСР, и именно эту дату признавали в качестве даты открытия института все современники, принимавшие участие в подготовке этого события, последующие поколения ученых, педагогов и студентов.
Отменяют ли эти выводы какую-либо из двух представленных версий истории нашего института? Полагаем, что нет. Скорее всего, речь должна идти о верном соотнесении событий и установлении причинно-следственных связей, результатом которых стало открытие Библиотечного института в Москве.
С момента создания вуз за свою 95-летнюю историю девять раз менял свое официально название, институционально оставаясь одной организацией, что дает возможность проследить непрерывную цепь событий, от-
|
год |
дата |
событие |
документ |
|
I. Период предыстории (1913–1930 гг.) |
|||
|
1913 |
28 января |
Решение об открытии библиотечных курсов в Народном университете им. А. Л. Шанявского по ходатайству Л. Б. Хавкиной |
Решение дирекции Народного университета им. А. Л. Шанявского от 28 января 1913 года |
|
1913 |
17 апреля |
Начало работы первых в истории Российской империи Библиотечных курсов под руководством Л. Б. Хавкиной, действующих на постоянной основе |
|
|
1922 |
Создание Кабинета библиотековедения в Румянцевском музее (далее – ГБЛ, ныне – РГБ), продолжившего организацию курсов по библиотечному делу. |
||
|
1924 |
ноябрь |
Создание Института библиотековедения (в структуре Кабинета библиотековедения), обеспечившего работу двухгодичных Высших вечерних библиотечных курсов, которые были упразднены после создания МБИ. |
|
Таблица 1 (начало). Периоды становления и развития Московского государственного института культуры
L
|
год |
дата |
событие |
документ |
|
II. Период институционализации и формирования монопрофильного вуза (1930–1964 гг.) |
|||
|
1930 |
10 июля |
Создание Библиотечного института в Москве в структуре педагогических вузов Наркомпроса РСФСР. Полное название вуза: Библиотечный институт Наркомпроса РСФСР в Москве. |
Постановление СНК от 10 июля 1930 г. (Ст. 426) «О сети, структуре и контингенте приема учащихся в высшие учебные заведения РСФСР на 1930/31 год». |
|
1931 |
Далее используется название – Московский библиотечный институт. Полное название вуза: Московский библиотечный институт Наркомпроса РСФСР. |
||
|
1938 |
11 мая |
Институт причислен в первой категории и получил статус «государственный». Полное название вуза: Московский государственный библиотечный институт Наркомпроса РСФСР. |
Постановление СНК СССР от 11 мая 1938 года |
|
1940 |
3 июля |
Присвоено имя советского государственного и партийного деятеля В. М. Молотова. Полное название вуза: Московский государственный библиотечный институт Наркомпроса РСФСР им. В. М. Молотова |
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1940 г. «О присвоении Московскому государственному библиотечному институту Наркомпроса РСФСР имени В. М. Молотова» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1940, № 22). |
|
1962 |
Решение о присвоение институту имени В. М. Молотова признано утратившим силу. Полное название: Московский государственный библиотечный институт |
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1962 года «О признании утратившими силу законодательных актов СССР о присвоении имен Ворошилова, Молотова, Кагановича, Маленкова» |
|
|
III. Период развития и формирования многопрофильного института культуры (с 1964 года по настоящее время) |
|||
|
1964 |
26 марта |
Переименован в институт культуры. Полное название: Московский государственный институт культуры Министерства культуры РСФСР |
Постановление Совета Министров РСФСР от 26.03.1964 года № 386 |
|
1980 |
28 июля |
Московский государственный институт культуры награжден Орденом Трудового Красного Знамени «За заслуги в деле подготовки специалистов культурнопросветительной работы». Полное название: Московский Ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры Министерства культуры РСФСР |
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1980 года. Указ подписали Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев и Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. |
|
1994 |
7 июня |
Переименован в университет культуры. Полное название: Московский государственный университет культуры |
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 7 июня 1994 года № 554 |
|
год |
дата |
событие |
документ |
|
1999 |
18 мая |
Переименован в университет культуры и искусств. Полное название: Московский государственный университет культуры и искусств |
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 мая 1999 года № 354 |
|
2011 |
25 мая |
Уточнен статус вуза. Полное название: федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет культуры и искусств». |
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.05.2011 № 499 |
|
2014 |
7 ноября |
Переименован в институт культуры. Полное название: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры» |
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.11.2014 года № 1872 |
|
2025 |
История продолжается. |
Таблица 1 (конец). Периоды становления и развития Московского государственного института культуры