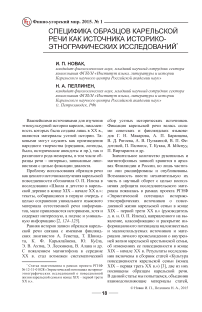Специфика образцов карельской речи как источника историко-этнографических исследований
Автор: Новак Ирина Петровна, Пеллинен Наталия Александровна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу образцов речи как одного из главных информационных ресурсов для изучения повседневной жизни карельской семьи конца XIX - первой трети XX в. Раскрываются особенности данного источника и осмысливается его потенциал для использования в историко-этнографических исследованиях.
Образцы речи, карельский язык, личность интервьюера, личность информанта, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/14723158
IDR: 14723158
Текст научной статьи Специфика образцов карельской речи как источника историко-этнографических исследований
Карельского научного центра Российской академии наук»
(г. Петрозаводск, РФ)
Важнейшими источниками для изучения этнокультурной истории карелов, письменность которых была создана лишь в ХХ в., являются материалы устной истории. Таковыми могут служить как произведения народного творчества (предания, легенды, были, исторические анекдоты и пр.), так и различного рода мемораты, в том числе образцы речи - интервью, записанные лингвистами с целью фиксации диалекта.
Проблему использования образцов речи как ценного источника изучения карельской повседневности обозначила О. П. Илюха в исследовании «Школа и детство в карельской деревне в конце XIX – начале XX в.»: тексты, собиравшиеся в первую очередь с целью сохранения уникального языкового материала естественной речи информантов, мало привлекаются историками, хотя и содержат интересную, а подчас и уникальную информацию [2, 124–125 ].
Ранняя история записи образцов карельской речи связана с именами финляндских лингвистов А. Генетца, Т. Швинд-та, К. Ф. Карьялайнена, Ю. Куёла, Э. В. Ахтиа, Э. Лескинена, В. Алава и др. С появлением магнитофона в середине XX в. стал возможен систематический сбор устных исторических источников. Фиксация карельской речи велась силами советских и финляндских языковедов Г. Н. Макарова, А. П. Баранцева, В. Д. Рягоева, А. В. Пунжиной, В. П. Федотовой, П. Палмеос, Т. Кукка, Я. Ыйспуу, П. Виртаранта и др.
Значительное количество рукописных и магнитофонных записей хранится в архивах Финляндии и России, но лишь частично они расшифрованы и опубликованы. Возможность ввести незначительную их часть в научный оборот с целью восполнения дефицита исследовательского материала появилась в рамках проекта РГНФ «Эвристический потенциал историкоэтнографических источников о повседневной жизни карельской семьи в конце XIX – первой трети XX в.» (руководитель д. и. н. О. П. Илюха), направленного на выявление, классификацию и раскрытие информационного потенциала малоизвестных и малоиспользуемых источников и материалов личного происхождения о внутренней жизни карельской крестьянской семьи, об изменениях ее повседневности в конце XIX - начале XX в. Результаты исследования включены в сборник статей «Культура повседневности карельской семьи (конец XIX – первая треть ХХ в.») [3], две из них посвящены образцам карельской речи. В данной статье мы попытаемся, объединив взаимодополняющие материалы статей,
представить итоги собственных исследований в обобщенном виде.
В статье И. П. Новак «Полевые аудиозаписи Александры Васильевны Пунжиной1 как источник информации о повседневной жизни тверской карельской семьи конца XIX – начала XX в.» содержится анализ образцов речи тверских карелов как исторического источника. Статья предваряет публикацию экспедиционных материалов А. В. Пунжиной, собранных в 1960–1970-х гг. в Верхневолжье. Речь идет о 19 свободных интервью - бытовых рассказах, воспоминаниях о пережитом, - отражающих материальную и духовную культуру тверских карелов конца XIX – начала XX в. Устные свидетельства были собраны в 1966-1973 гг. от девяти респондентов – женщин 1884– 1921 годов рождения, они хранятся в виде аудиозаписей в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН. В опубликованных текстах довольно подробно описаны такие стороны быта и детали повседневности тверской карельской семьи, как характер одежды, гигиена тела и жилища, народная медицина, праздничная традиция, обрядность жизненного цикла. Пять текстов содержат интересные сведения по этнографии и истории детства. Рассказов, касающихся непосредственно темы «семья», к сожалению, в записях немного. В ходе работы было решено включить в сборник не только переводы, но и тексты на карельском языке, поскольку ранее они нигде не публиковались.
Статья Н. А. Пеллинен «Образцы лю-диковской речи как источник информации о семейной повседневности карелов (на основе «Людиковских текстов», собранных Пертти Виртаранта)» предшеству-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ет публикации переводов образцов речи, записанных финским исследователем П. Виртаранта от единственного информанта – карела-людика Степана Годарева. В отобранных для публикации текстах содержатся не только фиксации, описания семейной среды карельской деревни конца XIX – начала ХХ в., но и нравственные оценки тех или иных событий и явлений. «Людиковские тексты» отличают детализация и логическая последовательность подачи материала. Оригинальный текст на карельском языке был опубликован ранее и доступен для ознакомления.
Проделанная работа, а также первичный анализ текстов позволили сделать определенные выводы относительно образцов речи как одного из важных информационных ресурсов для изучения повседневной жизни карельской семьи конца XIX – первой трети XX в. В рамках данной статьи мы остановимся на возможностях и проблемах использования этого исторического источника.
Начнем с того, что основной составляющей успешной полевой работы являются личность информанта и личность интервьюера. Планируя фиксацию образцов речи, исследователь предварительно умело «зондирует почву», узнает в органах местного самоуправления или у местных жителей о потенциальных информантах. Желательно, чтобы информант свободно владел языком, на котором записывается материал, обладал хорошей памятью, не был слишком стеснительным, не имел серьезных проблем с дикцией, не пережил в ближайшее время несчастья (потерю близкого, болезнь), не был слишком обременен домашними делами или приездом гостей и т. д. Работу с некоторыми информантами исследователи заканчивают очень быстро, к другим же возвращаются по нескольку раз. По словам П. Виртаранта, в лице Степана Годарева он встретил идеального информанта и мастерского рассказчика: «...его речь была четкой, спокойной, логичной, подробной», «информант сам предлагал новые темы и даже формулировал вопросы вместо меня» [6, I, 11]. Записывая диалектные материалы, исследователь не подготавливал заранее перечня вопросов, а лишь при необходимости осторожно направлял рассказ на темы, близкие и приятные Степану Годареву: жизненный путь, окружающая среда, рыбалка, охота, земледелие, а также различные мифологические и религиозные вопросы. Позднее Пертти Вир-таранта все чаще переводил беседу в сферу материальной и социальной народной культуры народа, о чем Годарев «рассказывал с удовольствием и основательно» [6, I, 6].
В предисловии к «Людиковским текстам» отмечается, что некоторые темы по прошествии нескольких лет освещались информантом повторно. Встретив хорошего информанта, войдя к нему в доверие и имея возможность посетить его несколько раз, исследователь существенно «повышает» достоверность и качество полученного материала. По воспоминаниям фольклориста ИЯЛИ КарНЦ РАН Н. А. Лавонен, некоторые заклинания ей удалось записать лишь после неоднократных посещений информанта A. E. Caлониеми, застав ее в один из приездов в настроении поделиться своими сокровенными знаниями. Известно, что к заговорам можно прибегать лишь в определенных случаях, находясь наедине с «жертвой» болезни, несчастья и пр., поэтому исполнительница долгое время обдумывала целесообразность «передачи» знаний; аргументом в пользу нее послужило, видимо, осознание того, «что хранить ей их осталось уже недолго». Перед исполнением информант спросила, что собиратели сделают с записями, чтобы удостовериться, что тексты не будут использованы «во зло» [5, 30 ].
Хотелось бы также остановиться на таком важном моменте, как знание интервьюером языка. Свободное владение толмачевским диалектом карельского языка, прекрасное знание знакомых с детства местных социокультурных норм, а также такие личные качества тверской карелки А. В. Пунжиной, как умение слушать и слышать, внимательность к собеседнику, толерантность, безусловно, помогали ей расположить респондентов к себе, дать им почувствовать ощущение собственной значимости. Многие информанты делились с Александрой Васильевной своими со- кровенными переживаниями, моментами, которые трудно поведать даже близким людям. А. В. Пунжина настолько проникалась к рассказчикам, что даже сейчас с легкостью может рассказать о судьбе каждого и даже детально воспроизвести обстановку, в которой производилась запись.
Не менее существенным фактором, влияющим на ход беседы, является половая дифференциация интервьюеров и респондентов. Отметим, что в отобранных информативных расшифровках А. В. Пун-жиной по интересующей нас тематике среди информантов нет ни одного представителя мужского пола, а подавляющее число «Людиковских текстов» собрано П. Виртаранта от информанта-мужчины. Как известно, женщины легче идут на контакт с собирателем-женщиной, и наоборот. Кроме того, существует мнение, что женщины лучше мужчин запоминают события, связанные с повседневной жизнью семьи и чувствами, и способны воспроизвести даже мелкие детали. Однако существуют исключения из данного правила, например, информант Степан Годарев, который с многочисленными подробностями описывает все сферы жизни карельского крестьянства. Если познакомить исследователя с этим материалом, не сообщив ему пол информанта, то, вероятно, прочитав некоторые части разделов «Пища», «Ребенок рождается и взрослеет», «Свадьба и брак» и др., он заключит, что респондент - женщина. Из многих оговорок и замечаний Степана Годарева, из самого выбора освещаемых им тем становится понятно, что семья, принадлежность своему роду, воспитание детей – краеугольные темы в его мировоззрении. Из воспоминаний этого информанта исследователи заключают, что мужчина-карел, при всей своей занятости, в воспитании детей играл не меньшую роль, чем женщина. Так, о принципах воспитания, усвоенных от бабушки, Степан рассказывал: « Я никогда не бил детей, а учил, хорошим словом успокаивал » [6, I, 9 ].
Остановимся далее на специфике самого источника. Обращение к образцам речи, как и к воспоминаниям в более широком плане, дает возможность увидеть историю и повседневную жизнь глазами «рядовых» людей, посмотреть на интересующую проблему «изнутри», что позволяет корректировать имеющиеся данные, получить новую информацию, более объективно воссоздать прошлое. С этой позиции, записанные от Степана Годарева образцы речи в качественном измерении представляются, безусловно, ценными, поскольку в рассказах «от себя» информант делает акценты на самых важных, с его точки зрения, аспектах духовной и материальной сторон жизни народа. Так, он неоднократно возвращался к теме семейных отношений, вопросу «отцов и детей», делал интересные наблюдения об отношениях людей, которых встречал в своих поездках, и о языке. Показательно, что во время последней встречи с Пертти Виртаранта Степан сказал собирателю: «Будь добр, смотри, чтобы все было в книге правильно!» [6, I, 12].
Еще одним существенным плюсом подобного рода источников является отражение личности рассказчика. В записях видны характер, темперамент, настроения, переживания респондентов, оценка ими описываемого события. В одном из текстов информант эмоционально делится своими опасениями, связанными с уборкой урожая: « Упаси, Господи, с градом туча, больше всего опасаются, тучи с градом светлые… Со своей полосы ждали хлеб… Побьет, так будешь одни стебли собирать с полосы… Всем сердцем со слезами просите, чтобы только град не пошел! » [3, 139–140 ].
Относительную свободу от идеологических клише советского времени, связанную со спецификой задач публикаций, и непосредственность образцов речи [2, 124 ] также нельзя не упомянуть, говоря о достоинствах источника. Степан Годарев характеризует отношение к браку на родине до и после установления советской власти следующим образом: «Хорошо было раньше. Богатые справляли свадьбу почти целую неделю. Ели и пили, веселились. Но сейчас во время [советской] власти женятся, как собака и кошка. Брали друг друга за руку и шли в сельский совет, расписывались, ничего другого не было. Позже, когда люди видели [их] вместе, щурили глаза: “Да эти уже поженились!” Немного времени проходило до женитьбы, еще скорее разводились. Это было, как загул у кошки» [6, III, 61 ]. Запись материалов «Людиков-ских текстов» от Степана Годарева велась в шведском Мёльндале, где он проживал с семьей долгие годы. Ввиду хронологической и дистанционной отдаленности информанта от советской действительности, принесшей ему серьезные потрясения, респондент делает отдельные замечания о нравах и порядках новой эпохи на родине, но подавляющая часть воспоминаний все же политически нейтральна и отражает традиционный уклад жизни карельского крестьянства.
Существенными для исследования карельской семейной повседневности конца XIX - начала XX в. являются и такие особенности источника, как незначительное количество воспоминаний, непосредственно касающихся темы внутрисемейных отношений, и давность интересующего нас периода. Очевидно, в силу особенностей карельского менталитета – а исследователи неоднократно подмечали такие присущие ему черты, как скрытность, замкнутость, подозрительность [1, 121 ], – информанты не желали углубляться в подробности своей личной жизни. Вскользь тема затрагивается в автобиографических рассказах и текстах, освещающих обрядность жизненного цикла карелов. Например, из текстов про святочные гадания узнаем, что далеко не всегда девушки выходили замуж по любви, важно было прислушиваться к мнению родственников: « В Святки я пошла под окно разговоры слушать. Там и говорят: вот как быстро корову забили, зарезали, сходу. И мне замуж пришлось сходу выйти. Пришли сваты, я отказала, а потом тут же уже и подумала и замуж вышла. <…> А у меня дурной муж, ну всю жизнь я его не любила… » [3, 122 ]; « Меня пришли сватать, да я и отказала, не хотела выходить замуж. Затем пришел брат Иван и говорит: почему Вы не идете, такой дом, такой парень, не идете замуж. Ну, уж и собралась » [3, 115 ].
В архивах хранятся рукописные записи карельской речи, датируемые концом
XIX в., однако так сложилось, что в связи с целенаправленной работой по сбору карельского диалектного материала и развитием звукозаписывающей техники значительная часть качественных записей речи была произведена в середине прошлого века от респондентов старшего поколения, для которых карельский язык еще оставался родным. Получается, что период, когда у карелов в полной мере сохранялись традиционные семейные ценности (конец XIX – начало XX в.), приходится на их детство и молодость, т. е. 40–70 лет назад относительно момента проведения интервью. Возникает вопрос: можно ли в таком случае надеяться на объективность источников? Специалисты отмечают, что человеческая память способна на протяжении нескольких десятилетий помнить события, не искажая воспоминаний о них по истечении первого года, а важные и повторяющиеся моменты сохраняются в памяти достаточно подробно. Историк П. Томпсон обращает внимание на присущий людям пожилого возраста феномен, названный им обзором прожитой жизни, когда они более не беспокоятся о том, чтобы вписаться в социальные нормы и в результате меньше искажают свои воспоминания [4, 141 ]. Например, информант Е. Ф. Лисицына, на момент записи интервью достигшая возраста 68 лет, достаточно подробно воспроизводит обряд купания новорожденного ребенка, который она наблюдала в юности: « Повитуха берет ребенка, а роженица, мать, следом со сковородником, чтобы его не сглазили… Повитуха берет веник и перекрещивает три раза ребенка… парит, моет, а под конец льет через локоть на головку… А затем возьмет, пососет темечко и сплюнет в сторону, чтобы ничто не пристало, чистенький, беленький, чтобы никакая порча не пристала… А затем она берет чистую материнскую рубаху и вытирает ребенка передом подола, и говорит: как эту рубаху никто не видел при носке, так и этого младенца пусть никто не увидит при попытке сглазить » [3, 97 ].
Учитывая историческую отдаленность исследуемого временного периода, хотелось бы акцентировать внимание на следу- ющем моменте. Безусловно, хранителями ценнейших материалов выступают архивы, однако не стоит забывать о таких нюансах, как низкая грамотность карельского населения интересующего нас периода, а также тенденциозность многих официальных документов, часто искажающих реальную картину народной жизни. К тому же воспоминания личного характера довольно редко являются достоянием архивов. В связи с этим именно образцы речи становятся важнейшим источником информации о повседневной жизни крестьянина. Работу с ними существенно осложняет их трудная доступность: большая часть материалов так и не вышла за пределы архивов. Не менее проблемный момент - отсутствие переводов на русский язык уже опубликованных текстов, что долгое время позволяло обращаться к ним только лингвистам для решения собственных исследовательских задач. Постепенная публикация образцов карельской речи, сопровождаемых переводом на русский язык, как и публикация переводов ранее опубликованных материалов, позволяет решить эту проблему. Следует, однако, упомянуть о некой ограниченности переводного источника. В процессе перевода довольно сложно, а подчас невозможно отразить особенности языка и речи информантов, сохранить местный колорит. В какой-то мере облегчить эту задачу позволяют приближенный к подстрочному перевод, подробные комментарии и пояснения.
Трудности вызывает и перевод отдельных лексем, словосочетаний и фразеологизмов, вышедших из употребления и не имеющих аналогов в русском языке. Например, в ходе работы над тверскими карельскими текстами лишь после консультации с А. В. Пунжиной удалось правильно передать смысл выражения «panna tähellä» (букв.: положить на звезду) как «убрать на хранение». Существенную помощь при переводе подобных выражений оказал богато иллюстрированный «Словарь карельского языка: Тверские говоры» А. В. Пунжиной (1994). Для передачи особенностей языковой ментальности карелов при переводе некоторых фразеологических оборотов из
«Людиковских текстов» было необходимо давать дополнительные пояснения в сносках; так, выражение «Muista jälkesi!» (букв.: Помни свои следы!) в публикуемом тексте сопровождается следующим комментарием: «Имеется в виду, что надо поддерживать отношения, навещать друг друга. Без регулярного общения родственники отдаляются друг от друга» [3, 178 ].
Кроме прочего, не стоит забывать и о такой специфической черте уже опубликованных образцов речи, как их «выжа-тость»: довольно часто опускаются особенности речи информанта, поиски слов, повторы, паузы, дополнительные вопросы интервьюера, а иногда и целые абзацы, что объясняется целью их создания (отражение фонетических, грамматических, синтаксических и лексикологических особенностей языка информанта). Восполнить пробел позволяет дополнительная работа с аудиозаписями, если таковые имеются.
Итак, использование образцов карельской речи в ходе исторического исследования имеет существенные достоинства и специфические особенности, которые следует иметь в виду. Введение в научный оборот такого рода текстов, несомненно, расширит источниковую базу и в какой-то мере поможет уточнить и обогатить уже имеющиеся представления о жизни карелов, а главное, позволит получить бесценные детали, показать локальные этнические особенности, характеризующие многообразие культуры. Подготовленный материал может оказаться полезным не только для историков, но и для этнологов, краеведов, культурологов, психологов и педагогов.
Список литературы Специфика образцов карельской речи как источника историко-этнографических исследований
- Булкин, А. А. Географическая разобщенность и субэтносы карел: дис. канд. геогр. наук/А. А. Булкин. -СПб., 2005. -197 с.
- Илюха, О. П. Историко-этнографические источники для изучения детской повседневности в Карелии конца XIX -начала ХХ века//Народ, разделенный границей: карелы в истории России и Финляндии в 1809-2009 гг. -Йоэнсуу, Петрозаводск, 2011. -C. 116-130.
- Культура повседневности карельской семьи (конец XIX -первая треть XX в.). Исследования. Материалы. Документы/cост. и ред. О. П. Илюха. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. -462 с.
- Томпсон, П. Голос прошлого. Устная история/П. Томпсон. -М.: Весь мир, 2003. -368 с.
- Kestingin kansanlauluja = Песенный фольклор кестеньгских карел/сост. Н. А. Лавонен, ред. А. С. Степанова. -Петрозаводск: Карелия, 1989. -290 с. -(Karjalan kansanrunouden muistomerkkejä = Памятники фольклора Карелии).
- Lyydiläisiä tekstejä I -V. Kerännyt, kääntänyt ja julkaissut Pertti Virtaranta. -Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 129-132, 165. -Helsinki 1963, 1964, 1976, 1984.