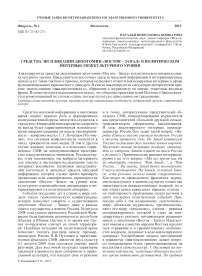Средства экспликации дихотомии «Восток - Запад» в политическом интервью межкультурного уровня
Автор: Кошкарова Наталья Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются средства экспликации дихотомии «Восток - Запад» в политическом интервью межкультурного уровня. Представители восточных средств массовой информации и интервьюируемые используют такие тактики и приемы, которые позволяют отнести анализируемые интервью к сфере функционирования гармоничного дискурса. В статье анализируются следующие риторические приемы: использование «мы-инклюзивного», обращение к журналисту по имени, этикетные вводные фразы. В качестве итога высказывается мысль, что общение представителей Востока и Запада является коммуникацией не столько стран, сколько культур с присущими им традициями.
Восточная культура, западная культура, национальные особенности, конфликтный дискурс, гармоничный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/14750352
IDR: 14750352 | УДК: 81’23+81’271
Текст научной статьи Средства экспликации дихотомии «Восток - Запад» в политическом интервью межкультурного уровня
Средства массовой информации в настоящее время играют важную роль в формировании коммуникативной среды читателя и слушателя, а «качество» взаимодействия адресанта и адресата не всегда будет характеризоваться положительными макроинтенциями на шкале «кооперативность – конфликтность». Г. Г. Почепцов [9] отмечает, что ситуация конфликтности относится к числу приоритетов масс-медиа. В том и другом случае влияние тематики и стилистики современных СМИ на коммуникативное пространство социума является очевидным. Руководствуясь этим положением, мы выбрали материалом для анализа в настоящем исследовании тексты интервью российских политиков представителям восточных и западных средств массовой информации, которые служат ярким примером проявления всех специфических характеристик дихотомии «Восток – Запад» на уровне межкультурного взаимодействия интервьюера и интервьюируемого в политическом интервью.
События последних лет в стране и мире создали такую геополитическую конфигурацию, которая позволяет говорить о существовании дихотомии «Восток – Запад» даже в рамках одного государства, а именно России. 26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации была признана независимость республик Абхазия и Южная Осетия, в то время как Грузия по-прежнему считает их своей территорией. Подобная ситуация на политической арене позволяет считать разговор между премьер-министром России В. В. Путиным и представителями абхазских СМИ диалогом двух культур (12 августа 2009 года состоялся именно такой разговор). Для восточной культуры характерна традиция клановости (или соборности в православной культуре), что находит свое отражение и в темах, интересующих представителей абхазских СМИ, позиционировании журналистов как представителей «большой дружной семьи», грамматическом оформлении высказывания. В ходе анализируемого интервью премьер-министру России был задан такой вопрос: «Народы Кавказа высоко оценили поступок России в августе прошлого года. Но Запад критикует Россию за спасение двух малочисленных народов. Насколько такая политика двойных стандартов со стороны Запада влияет на шаги России в регионе?» Примечательна реакция интервьюируемого на этот вопрос: «Мы все время как бы по стандарту говорим: “Вот Запад…”, а “Вот Россия…”. Вы знаете, Запад тоже неоднороден. Совсем неоднороден. На Западе, условном Западе, есть реально немало наших сторонников». Как видно из приведенного фрагмента, журналисты выступают в данном случае не только как представители аккредитованных изданий, но и как члены семьи кавказских народов, отсюда – их озабоченность проблемами своего региона в свете последних политических событий. Причисляя себя к так называемому «восточному» миру, абхазские журналисты противопоставляют его миру «западному», отсюда – реакция интервьюируемого, который в ответ на инициирующую реплику интервьюеров развивает мысль о дихотомии «Восток – Запад». Идея коллективизма и единства народов Востока находит свое отражение и в грамматических особенностях вопросов, заданных в ходе анализируемого интервью. Употребление личных местоимений в парадигме «мы-инклюзивное» делает вопросы интервьюеров более ориентированными на коллектив и свою культуру: 1. Несмотря на экономический кризис, экономика Абхазии в последнее время интенсивно развивается. По крайней мере – так считают наши эксперты. 2. Мы все в Абхазии очень переживали за Россию, когда решался вопрос Олимпиады 2014 года. 3. Владимир Владимирович, большая часть населения нашей республики – это граждане Российской Федерации. В данном случае реализуется одно из значений мы-инклюзивного – метонимическое мы, под которым понимается «наша страна», а в данном случае – «наша республика». На уникальную способность местоимения мы-инклюзивного становиться выразителем разнообразных общественно-политических и культурных смыслов указывают М. А. Даниэль [2], Б. Ю. Норман [7], Т. Н. Колокольцева [5]. Так, например, Т. Н. Колокольцева [5] отмечает следующие концептуальные значения мы-инклюзивного: 1) общенациональное мы (‘все граждане страны, в том числе и президент’); 2) коллегиальное мы (‘руководство страны’, ‘президент + правительство’); 3) метонимическое мы (‘наша страна’); 4) актуальное мы (адресанты и адресаты речи). Анализ языкового материала показывает, что на уровне политического интервью межкультурного уровня в вопросах журналистов (чаще всего представителей так называемого «восточного» мира) реализуется третье из указанных значений (метонимическое мы). В интервью Д. А. Медведева на посту президента России Центральному телевидению Китайской Народной Республики интервьюер позиционирует себя одновременно и как представителя дружественного России государства, и как аккредитованного им издания, наделенного полномочиями в обсуждении актуальных вопросов современной политической ситуации: Я думаю, что никто не мог пропустить репортаж в марте этого года о том, как Вы побывали за штурвалом «Су-34». И конечно, многие тоже вспомнили о том, как в свое время Президент Путин во время чеченской кампании летал на боевом самолете. Мы хотели бы узнать: наверное, это не только Ваше любопытство к военной технике, но еще какой-то сигнал, может быть, Вы хотели передать с помощью этого? <...> Мы обратили внимание на то, что в Вашем первом послании Вы критиковали США, в частности, по вопросу Южной Осетии и Абхазии. Как Вы оцениваете современный международный порядок? В приведенном фрагменте интервьюер умело сочетает использование местоимений в парадигме «мы-инклюзивное», личного местоимения я и вводной фразы, подчеркивающей собственное отношение к предмету разговора. О. Н. Паршина [8] указывает на то, что повествование от первого лица несет в себе аспект достоверности, а интимизация как риторический прием имеет задачу создать атмосферу доверительности в общении и тем самым повлиять на сознание и мысли адресата. Прагматический потенциал данного риторического приема со всей полнотой реализуется в рамках гармоничного дискурса, пространство которого совпадает с областью функционирования текстов интервью журналистов, представляющих восточные СМИ, когда интервьюер главной своей задачей видит кооперативное взаимодействие с собеседником, смягчение негативных последствий от беседы, избегание провокационных вопросов и моментов во время интервью.
Другим приемом, направленным на коммуникативное сотрудничество, является обращение политика к журналисту по имени. Н. И. Лав-ринова [6] указывает на то, что обращение к собеседнику по имени может встречаться в интервью как кооперативного, так и конфликтного типа, а сам автор относит этот прием к средствам коммуникативного сотрудничества, когда говорящий демонстрирует стремление к кооперации, а в конфронтационном диалоге – к смягчению возможной резкости высказывания. Наши наблюдения показывают, что в политическом интервью межкультурного уровня обращение интервьюируемого к журналисту по имени встречается крайне редко, только в тех случаях, когда беседа носит сенсационный характер, как, например, в интервью В. В. Путина шефу бюро катарского телеканала «Аль-Джазира» в Москве (18 октября 2010 года): ВОПРОС: Господин Президент, по поводу ООН. Многие считают, что это как бы уже формальный, слабый орган. У Вас есть какие-то предложения или видение по поводу реформирования ООН, чтобы она стала более эффективной, потому что при американском диктате, который сейчас везде присутствует, чувствуется, что на самом деле роль этой организации ослабла. В. ПУТИН: Вы знаете, Акрам , я так бы прокомментировал Ваш вопрос.
Этикетное оформление реплик журналиста в гармоничном дискурсе происходит за счет использования определенной формы обращения, которая в данном случае является выражением статусных ролей собеседников и национальных особенностей коммуникантов. Т. С. Жукова [3] выделяет следующие функции обращения: 1) выражение вежливого, уважительного отношения к собеседнику; 2) указание на то, что конкретная информация будет направлена тому, кому данное сообщение адресовано; 3) демонстрация заинтересованности в личности другого как субъекта общения; 4) создание положительных эмоций у собеседника; 5) формирование аттракции (чувства взаимной симпатии).
На реализацию этих функций обращений в политическом интервью межкультурного уровня при общении с представителями восточных средств массовой информации существенным образом влияют экстралингвистические факторы, среди которых особая роль принадлежит статусным позициям адресата и адресанта, сохранению асимметричности ролевой ситуации.
Как следует из анализа языкового материала, почти все вопросы журналистов – представителей восточных СМИ вводятся обращениями Господин Президент или Господин Премьер, в то время как в интервью журналистов – представителей западных СМИ это обращение может быть заменено на использование имени-отчества собеседника или вовсе быть опущено.
Интервью характеризуется диалогической формой существования. И. В. Иванова [4], анализируя различные точки зрения по вопросу определения и классификации интервью, приходит к выводу, что исследуемый жанр представляет собой устный диалогический текст (автор подчеркивает мысль о том, что письменная сторона интервью является вторичной), состоящий из вопросов адресанта и ответов адресата, построенный по полужесткой схеме, обусловленный экстралингвистическими факторами (именно – общественно-политическими изменениями). Согласно информационно-аксиологическому критерию, о котором пишет Е. В. Вохрышева [1], диалогическое взаимодействие представляет собой коммуникативный и одновременно социокультурный феномен. Социокультурная модель, которую анализирует автор, с одной стороны, отражает типичную для коммуниканта как социального субъекта схему и стиль мышления, а с другой стороны, помогает выстраивать непосредственную коммуникацию и планируемые коммуникативные акты. По нашему мнению, у представителей восточных средств массовой информации доминирование социокультурных признаков происходит в направлении гармоничной диалогической модальности, что накладывает отпечаток на выбор интервьюируемым определенных тактик в ходе интервью и функционирование подобных текстов в рамках гармоничного дискурса.
Побуждение к позитивному обмену информацией в ходе интервью (особенно его начале) происходит при помощи вопросов. Журналист должен стремиться к получению достоверных, актуальных и полных сведений по обсуждаемой проблеме. Как показывает анализ языкового материала, вопросы журналистов – представителей восточных СМИ лишены конфликтогенного потенциала, задаются в очень корректной форме, редко провоцируют собеседника на спор или ссору. Мы считаем, что подобная формулировка вопросов позволяет интервьюеру быть не партнером по разговору, а лишь пассивным участником беседы, отдавая большие права интервьюируемому в плане выражения своей точки зрения и планирования беседы в нужном ему ракурсе.
Как уже было указано выше, в таких интервью сохраняется асимметрия ролей партнеров, что является еще одним аргументом в пользу характеристики подобных информационных диалогов как функционирующих в рамках гармоничного дискурса. Так, например, в интервью тогда еще премьер-министра России В. В. Путина японскому информационном агентству «Киодо Цусин», телерадиокорпорации «Эн-Эйч-Кей» и газете «Нихон Кейдзай» («Никкей») журналисты используют следующие вводные фразы в своих вопросах и характерные для гармоничного дискурса формулировки своих высказываний: Теперь хотел бы задать вопрос об экономическом сотрудничестве . <...> Хотел бы обратиться к Вам еще с одним вопросом . <..> Я хотел бы спросить Вас насчет международных проблем . <..> Теперь вопрос об американо-российских отношениях. <..> У меня еще один вопрос по ядерному разоружению. <..> Теперь хотел бы задать вопрос о Северной Корее. <..> Я хотел бы задать вопрос о внутренней экономической ситуации в России. <..> Хотел бы задать еще один вопрос по экономике. Употребление сослагательного наклонения в инициирующей реплике способствует смягчению возможного негативного эффекта от иногда «неудобных» вопросов журналиста, позволяя одновременно с этим оставаться последнему ведущим в диалоге и определяющим дальнейшее развитие беседы. Формулировки подобного типа Н. И. Лавринова [6] характеризует как экспликацию говорящим своего коммуникативного намерения, когда говорящий направляет партнера по коммуникации в нужное субъекту речи русло, предупреждает его об изменениях в дальнейшем ходе беседы. Мы согласны с автором, что данный прием является показателем коммуникативного сотрудничества, а в нашей терминологии – характеристикой гармоничного дискурса.
Таким образом, общение представителей Востока и Запада в политическом интервью представляет коммуникацию не столько стран, сколько двух культур с присущими им национальными особенностями. В данном случае индивидуальные особенности речевого поведения коммуникантов функционируют в рамках норм и правил определенной культуры. Последние, в свою очередь, накладывают отпечаток на использование собеседниками в ходе политического интервью межкультурного уровня тех или иных риторических приемов, стратегий и тактик, речевых формул, принятых в том или ином обществе и реализуемых в данном типе информационного диалога.
INTERCULTURAL POLITICAL INTERVIEW: MEANS OF “EAST – WEST” DICHOTOMY’S EXPLICATION
The paper is devoted to the analysis of the “East – West” dichotomy’s explication in the intercultural political interview. The representatives of the eastern mass-media and the interviewees choose the tactics which give good reasons to classify such interviews as functioning in the framework of congruous discourse. The author analyzes the following rhetorical means: “ we -inclusive”, address to the journalist by his name, etiquette introduction phrases. The conclusion is that the interaction of the East and West’s representatives is not as much communication of the countries, but rather of the cultures with their traditions.
Список литературы Средства экспликации дихотомии «Восток - Запад» в политическом интервью межкультурного уровня
- Вохрышева Е. В. Коммуникативные стратегии диалогического взаимодействия в новоанглийском языке: Дис.. д-ра филол. наук. СПб., 2001. 473 с.
- Даниэль М. А. Является ли инклюзив местоимением первого лица (терминологический экскурс в типологической перспективе)//Языки мира. Типология. Уралистика. Памяти Т. Ждановой. Статьи и воспоминания. М.: Ивдрик, 2002. С. 238-257.
- Жукова Т. С. Обращение как инструмент эффективных диалогических коммуникаций (на примере делового общения) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/33435605/
- Иванова Д. В. Речевые способы преодоления конфликта (на материале русского и английского языков): Дис.. канд. филол. наук. Саратов, 2010. 182 с.
- Колокольцева Т. Н. Новые жанры диалогической коммуникации: теледиалог Президента с гражданами России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid
- Лавринова Н. И. Текстовая актуализация речевого поведения коммуникантов в политическом интервью: Дис.. канд. филол. наук. Архангельск, 2010. 201 с.
- Норман Б. Ю. Русское местоимение МЫ: внутренняя драматургия//Russian linguistics. 2002. Vol. 26. № 2. P. 217234.
- Паршина О. Н. Российская политическая речь: Теория и практика. М., 2012. 232 с.
- Почепцов Г. Г. Психологические войны. М., 2002. 528 с.