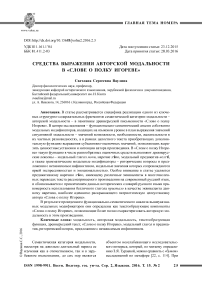Средства выражения авторской модальности в "Слове о полку Игореве"
Автор: Ваулина Светлана Сергеевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика реализации одного из ключевых структурно-содержательных фрагментов семантической категории модальности - авторской модальности - в памятнике древнерусской письменности «Слово о полку Игореве». В центре исследования - функционально-семантический анализ собственно модальных модификаторов, входящих на языковом уровне в план выражения значений ситуативной модальности - значений возможности, необходимости, желательности в их частных разновидностях, а в рамках целостного текста приобретающих дополнительную функцию выражения субъективно-оценочных значений, позволяющих выразить ценностные установки и интенции автора произведения. В «Слове о полку Игореве» такую функцию в числе разнообразных оценочных средств выполняют древнерусские лексемы - модальный глагол мочи, наречие лѣпо, модальный предикатив нелзѣ, а также грамматические модальные модификаторы - риторические вопросы и предложения с независимым инфинитивом, модальные значения которых сопровождаются яркой экспрессивностью и эмоциональностью. Особое внимание в статье уделяется предикативному наречию лѣпо, имеющему различные эквиваленты в многочисленных переводах текста рассматриваемого произведения на современный русский язык, и обосновывается с привлечением данных исторических словарей русского языка правомерность использования безличного глагола пристало в качестве эквивалента данному наречию, наиболее адекватно раскрывающего патриотическую целеустановку автора «Слова о полку Игореве». В результате проведенного функционально-семантического анализа вышеуказанных модальных модификаторов они определены как текстообразующие компоненты «Слова о полку Игореве», позволяющие более полно охарактеризовать авторскую модальность в этом произведении.
Модальность, авторская модальность, текстообразующая функция, древнерусский текст, "слово о полку игореве", модальный глагол и предикатив, риторический вопрос, предложение с независимым инфинитивом
Короткий адрес: https://sciup.org/14969968
IDR: 14969968 | УДК: 811.161.1’04 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.3
Текст научной статьи Средства выражения авторской модальности в "Слове о полку Игореве"
DOI:
Семантическая категория модальности, несмотря на довольно длительный период ее изучения как в отечественном, так и в зарубежном языкознании, до сих пор является объектом неослабевающего исследовательского интереса, который, по меткому определению З.Я. Тураевой, можно сравнить с «бумом» исследований по метафоре [22, с. 114]. При
этом важно подчеркнуть, что данный интерес в настоящее время весьма отчетливо сместился от модальности предложения (высказывания) к модальности текста, наглядным свидетельством него является большое количество научных работ по проблемам текстовой модальности, в том числе диссертаций и монографий, вышедших в последние десятилетия. Данный факт представляется отнюдь не случайным, если иметь в виду замечание основоположника изучения модальности в отечественном языкознании академика В.В. Виноградова о том, что «в языках европейской системы она охватывает всю ткань речи» [5, с. 57], и с этой точки зрения изучение модальности «как средства социального взаимодействия, как социокультурного феномена» [22, с. 114] органично вписывается в антропоцентрическую парадигму современных лингвистических исследований, в которых приоритетным является учет человеческого фактора в качестве важного экстралингвистического компонента языковых явлений.
В центре внимания исследователей модальности текста находятся вопросы, связанные с изучением текстообразующей функции модальности (см. об этом подробнее: [8; 18; 21]), а это означает, что речь фактически идет об авторской модальности, которая впервые терминологически была обозначена в конце 80-х гг. прошлого столетия в работах В.А. Кухаренко [11], М.И. Откупщиковой [15] и др. Однако следует отметить, что, несмотря на активное обращение ученых к проблеме авторской модальности, до сих пор отсутствует единство подходов к пониманию ее структурно-содержательной природы. Оставляя за пределами данной статьи анализ соответствующих разногласий, поскольку они были охарактеризованы нами ранее (см. [2]), укажем лишь, что наша трактовка авторской модальности опирается на базовое определение И.Р. Гальперина, согласно которому в основе авторской модальности лежит «индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, описанными средствами содержательно-факту-альной информации, понимание их причинноследственных связей, их значимости в социальной, экономической, политической и культурной жизни народа, включая отношения между отдельными индивидуумами, их сложного психологического и эстетико-познавательного взаимодействия» [7, с. 28]. При этом заметим, что в своем понимании авторской модальности мы исходим из того, что она шире понятий «образ автора» и «идиостиль писателя», а также соотносится с понятием «субъективная модальность» при ее реализации в тексте [2].
Отметим также, что среди многочисленных исследований, посвященных анализу авторской модальности, лишь некоторые проведены на материале древнерусских текстов, а также текстов, относящихся к последующему периоду в истории русского языка (см. диссертационные исследования А.В. Опариной [14], Е.Н. Капрэ [10], Н.В. Старовойтовой [20]). Однако в этих работах, имеющих свои собственные задачи, отсутствует комплексный анализ авторской модальности. Так, А.В. Опарина рассматривает ее лишь в лексико-грамматическом аспекте с точки зрения разночтений глагольных форм в различных списках «Повести временных лет», Е.Н. Капрэ анализирует лексические средства реализации субъективной модальности в древнерусских и старорусских житийных текстах в рамках функционально-семантических полей и микрополей, а в диссертации Н.В. Старовойтовой реализация авторской модальности в «Книге о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова рассматривается только на материале сложноподчиненных предложений с отношениями обусловленности. Между тем комплексный анализ авторской модальности в пространстве целостных текстов письменных памятников раннего периода истории русского языка является весьма важным как с культурологической точки зрения, поскольку позволяет проникнуть в духовный мир автора произведения, так и в плане формирования и исторической эволюции языковых средств выражения данной категории.
В контексте вышесказанного большой интерес представляет памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», запечатлевший историю неудачного похода Новгород-Северского князя Игоря Святославовича в 1185 г. на половцев, в Половецкую степь; произведение, о котором А.С. Пушкин в свое время написал, что оно «возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности» [16, с. 361], а Д.С. Лихачев, разделяя в целом данную оценку, сделал немаловажное уточнение: «“Слово” возвышается, но не в пустыне, не на равнине, а среди горной цепи, где есть и памятники исторические, ораторские, житийные, где есть произведения, сходные по своему типу, где высказывались сходные патриотические идеи, возникали сходные темы» [12, с. 6–7]. При этом по-прежнему актуальными являются слова В.В. Виноградова о том, что «не только в русской, но и в мировой литературе немного памятников, которые на протяжении почти двух веков вызывали бы столь пристальный интерес» [6, с. 12]. Наглядным подтверждением этому может служить вышедшая несколько лет назад монография А.М. Ломова [13], в которой с привлечением обширных сведений из филологических и исторических исследований полемически рассматриваются ключевые вопросы, всегда волновавшие и волнующие до сих пор отечественное и зарубежное слововедение: о времени создания «Слова о полку Игореве», его жанре, и, конечно же, об авторе. Последний вопрос представляется для нас особенно важным, поскольку, как справедливо пишет И.П. Еремин, автор «Слова о полку Игореве» «заполняет собою все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, автор, вносит в “Слово” и ту лирическую стихию и тот горячий общественно-политический пафос, которые так характерны для этого произведения» [9, с. 111]. «Автор, – замечает Д.С. Лихачев, – постоянно вмешивается в ход событий, о которых рассказывает. Он прерывает самого себя восклицаниями тоски и горя, как бы хочет остановить тревожный ход событий, сравнивает прошлое с настоящим, призывает князей-современников к активным действиям против врагов родины» [12, с. 8].
Все эти качества автора «Слова о полку Игореве» раскрываются через язык и стиль произведения, рассмотреть которые с точки зрения выражения авторской модальности в ограниченных рамках статьи представляется невозможным. Наша же задача – осуществить функционально-семантический анализ собственно модальных языковых средств, посредством которых реализуется авторская модальность в данном произведении.
Прежде всего, обратимся к модальным модификаторам – предикативным наречиям и глаголам, которые, согласно квалификации языковой модальности как функциональносемантической категории, выражая в сочетании с зависимым инфинитивом значения возможности, необходимости, желательности, относятся к ситуативной модальности, но в рамках целостного текста весьма часто принимают на себя также функцию выражения субъективно-модальных оценочных значений. В тексте «Слова о полку Игореве» в этой функции выступают модальный глагол мочи , наречие л 4 по и модальный предикатив нелз 4 .
Вышеуказанные модификаторы в «Слове» зафиксированы единичными примерами употреблений, но играют в нем важную текстообразующую роль. Среди них особого внимания заслуживает наречие л4по, употребленное автором в начальном предложении произведения: Не л4по ли бяшетъ, братие, начяти старыми словесы, трудныхъ по-в4стий о пълку Игорев4, Игоря Святъсла-вича? (с. 254) – Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами ратных повестей о походе Игоревом, Игоря Святославича? (с. 255). В многочисленных переводах текста «Слова» на современный русский язык данное наречие переводится по-разному: например, в первом издании, датированном 1800 г., оно переведено наречием приятно, в переводах, выполненных Д.С. Лихачевым и О.В. Твороговым, – безличным глаголом пристало, в переводе В.А. Жуковского – наречием прилично, в переводе Н.А. Заболоцкого – предикативным существительным пора, с которым соотносится предикатив (не) время, употребленный в переводе И.И. Шклярев-ского, а в переводе Л.А. Дмитриева используется безмодификаторная конструкция с независимым инфинитивом Не начать ли нам, братья... Названные и другие различия становятся понятными, если обратиться к данным исторических словарей. Так, в Словаре русского языка ХI–ХVII вв. фиксируются следующие значения л4по: «1. Наречие. Надлежащим образом, хорошо; красиво. 2. Безл. в значении сказуемого. Прилично, подобает, следует» (СлРЯ ХI–ХVII вв., вып. 8, с. 208). Со вторым значением наречия л4по, указанным в данном словаре, соотносится и значение л4по «прилично, годится, следует», приведенное в Словаре И.И. Срезневского (Сл. Срезневского, т. 2, ч. 1, с. 74). По нашим наблюдениям, именно в таком значении л4по как предикатив в сочетании с зависимым инфинитивом часто используется в памятниках книжной древнерусской письменности, выполняя функцию экспликатора модального значения необходимости осуществления действия, обусловленного причинами морально-этического характера [4, с. 58–59]. И именно эту функционально-модальную нагрузку выполняет л4по в «Слове», фактически уже в самом начале произведения раскрывая целевую установку автора – ‘следует (я должен) начать повествование, потому что это соответствует нравственным принципам, внутреннему долгу патриота’. Таким образом, наиболее адекватной из вышеперечисленных современных переводных эквивалентов наречия л4по, раскрывающих ценностные интенции автора, можно, на наш взгляд, считать безличную глагольную форму пристало, содержащую в своем значении сему ‘подобает’ [ср. одно из значений глагола пристать, зафиксированное в толковом словаре современного русского языка, – «оказаться подобающим чьему-л. состоянию, положению» (СТС, с. 619)].
Глагол мочи употреблен в обращении киевского князя Святослава в его «золотом слове» к князю Всеволоду Суздальскому, участвовавшему в походе вместе с его братом князем Игорем: Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прил4тети издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногат4, а кощей по резан4. Ты бо мо-жеши посуху живыми шереширы стр4ля-ти – удалыми сыны Гл4бовы (с. 262) – Ты ведь можешь (способен. – С. В.) Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Ты ведь можешь (способен. – С. В.) посуху живыми шереширами стрелять (с. 263). В приведенном отрывке глагол мочи реализует, как очевидно из контекста, одно из своих частных модальных значений – значение субъективной возможности ‘быть способным выполнить действие’. В обращении к Все- володу князь Святослав подчеркивает его лучшие качества – силу и умение, – призывая употребить их на благое дело защиты отечества, и с этим призывом, безусловно, солидарен автор «Слова о полку Игореве».
Близкую модально-оценочную функцию в «Слове о полку Игореве» выполняет модальный предикатив нелз 4 , который зафиксирован нами в следующем отрывке из «Слова», содержащем оценочные рассуждения автора о героических прошлых временах на Руси и ее правителях-князьях – патриотах земли русской: О, стонати Руской земли, помянувше пръвую годину и пръвых князей! Того ста-раго Владимира нелз 4 б 4 пригвоздити къ горамъ киевскимъ; сего бо нын 4 сташа стязи Рюриковы, а друзии – Давидовы, ихъ розно ся имъ хоботы пашутъ (с. 264) – О, печалиться Русской земле, вспоминая первые времена и первых князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским; а ныне одни стяги Ру-риковы, а другие – Давыдовы, и порознь их хорунгви развеваются (с. 265). Данный предикатив, весьма часто употреблявшийся в памятниках древнерусской письменности со значением «невозможно» (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 11, с. 164), в приведенном примере выражает дополнительный оценочный признак ‘невозможно выполнить действие в силу исключительных качеств субъекта’.
Роль экспликаторов авторской модальности выполняют в «Слове о полку Игореве» также грамматические средства. Здесь следует выделить риторический вопрос и предложения с независимым инфинитивом.
Риторический вопрос относится к вопросительным предложениям так называемой вторичной функции, в которых вопрос «направлен не на поиск информации, а на ее передачу, на непосредственное сообщение о чем-либо» [19, с. 394], то есть структурно-смысловой скрепой в таких предложениях является ситуативная модальность, реализуемая, как правило, в значениях возможности, необходимости, желательности в их утвердительных или отрицательных разновидностях. При этом свойственная риторическому вопросу экспрессивность придает большую выразительность содержащейся в нем субъективно-модальной оценке. «Очевидное и неотъемлемое присутствие элемента вопросительности в риторических вопросах, – отмечает Е.В. Рагозина, – находит свое отражение и в определении составных модальных значений данных конструкций, а именно: объективно-модального значения, определяющего отношение сообщаемого к действительности, и субъективномодального, синтезирующего все аспекты эмоциональности и экспрессивности» [17, с. 110–111]. Именно таким функциональным переплетением модальных значений, органически сочетающимся с высокой эмоциональной тональностью, характеризуются риторические вопросы, обращенные автором «Слова» к князю Всеволоду, содержащиеся в «Плаче Ярославны» или употребленные в символическом диалоге князя Игоря с Доном. Ср.:
Яръ Туре Всеволод 4 ! <...> Камо, Туръ, по-скочяше, своимъ златымъ шеломомъ посв 4 чивая, – тамо лежатъ поганыя головы половецкыя, поске-паны саблями калеными шеломы оварьскыя отъ тебе, Яръ Туре Всеволоде! Кая рана дорога, бра-тие, забывъ, чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Гл 4 бовны, свычая и обычая! (с. 258) – Яр-Тур Всеволод! <...> Куда, Тур, ни поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, – там лежат головы поганых половцев, расщеплены саблями калеными шлемы аварские от твоей руки, Яр-Тур Всеволод! Какая рана удержит, братья, того, кто забыл о почестях и богатстве, забыл и города Чернигова отцовский золотой престол, и своей милой жены, прекрасной Глебовны, любовь и ласку! (с. 259) = ‘не может / не в состоянии совершить действие’.
О в 4 тре в 4 трило! Чему, господине, начально в 4 еши? Чему мычеши хиновьскыя стр 4 лкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшетъ гор 4 подъ облакы в 4 яти, лел 4 ючи корабли на син 4 мор 4 ? Чему, господине, мое веселие по ковылию разв 4 я? (с. 264) – О ветер, ветрило! Зачем, господин, так сильно веешь. Зачем мечешь хиновкие стрелы на своих легких крыльях на воинов моего лады? Разве мало тебе под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю разъвеял? (с. 265) = ‘не следовало / напрасно было совершать действие’.
Донец рече: «Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а руской земли весе-лиа!» (с. 266) – Донец сказал: «Князь Игорь! Разве не мало тебе славы, а Кончаку досады, а Русской земле веселья!» (с. 267) = ‘не стоило / напрасно было совершать действие’.
Игорь рече: «О, Донче! Не мало ти величия, лел 4 явшу князя на влънахъ, стлавшу ему зел 4 ну траву на своихъ сребреныхъ брез 4 хъ, од 4 вавшу его теплыми мъглами под с 4 нию зелену древу» (с. 266) – Игорь сказал: «О Донец! Разве не мало тебе славы, что лелеял ты князя на волнах, расти-лал ему зеленую траву на своих серебряных берегах, укрывал его теплыми туманами под сенью зеленого дерева» (с. 267) = ‘не стоило / напрасно было совершать действие’.
Грамматическая природа предложений с независимым инфинитивом содержит высокий потенциал для экспликации различных модальных значений, и в первую очередь значений возможности, необходимости, желательности в многообразии их частных разновидностей, сопровождающихся высокой степенью экспрессивности и эмоциональности. Именно поэтому данные предложения, позволяя передать в тексте произведения авторские размышления, дать субъективномодальную оценку описываемым событиям, поступкам и переживаниям героев, традиционно широко представлены в разговорной и фольклорной речи (см. об этом подробнее: [3]). Данное качество инфинитивных предложений ярко отражено и в «Слове о полку Игореве».
Так, ключевым по своей модальной и эмоциональной насыщенности является инфинитивное предложение в отрывке «Слова», где автор обращается к Бояну, выражая сожаление о том, что уже нет возможности прославить прекрасной бояновской песней героический поход князя Игоря: О Бояне, соловию стараго времени! А бы ты сиа плъкы уще-коталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени... П4ти было п4снь Игореви, того внуку... (с. 254) – О Боян, соловей старого времени! Если бы ты полки эти воспел, скача, соловей, по мысленному древу, взлетая умом под облака, свивая славы вокруг нашего времени... Так бы петь песнь Игорю, того внуку... (с. 255). Модальную семантику выделенного предложения составляет значение желательности действия, указание на нереальность осуществления которого содержится в предыдущем предложении и реализуется посредством глагола в форме сослагательного наклонения, в результате чего значение желательности осложняется семой ‘невозможность’.
Показательны с точки зрения выражения авторской модальности инфинитивные предложения, реализующие одно из частных значений объективной возможности – значение «неизбежность выполнения действия» в силу стечения внешних условий, находящихся вне сферы влияния субъекта или препятствующих внешних обстоятельств, указания на которые содержатся в контексте. Ср.:
Быти грому великому, идти дождю стр 4 ла-ми съ Дону Великаго! (с. 256); Ту ся копиемъ прила-мати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы поло-вецкыя, на р 4 ц 4 , у Дону Великаго (с. 256); Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думаю сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потр 4 пати! (с. 260); Ни хыт-ру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути! (с. 264).
Среди этих и подобных предложений особое место занимает предложение А Игорева храбраго плъку не кр 4 сити! , которое рефреном проходит через все произведение, звуча в устах автора как своеобразный реквием по полку Игоря (с. 258, 262).
Знаменательно по своей модальной тональности, демонстрирующей гражданский патриотизм и «исторический оптимизм» автора «Слова у полку Игореве», и инфинитивное предложение, которое символично завершает произведение: Пьвше п 4 снь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ п 4 ти! (с. 266).
Таким образом, рассмотренные модальные экспликаторы выполняют важную функциональную нагрузку в качестве текстообразующих компонентов «Слова о полку Игореве», позволяя более глубоко раскрыть авторскую модальность в этом произведении. Конечно, весьма жаль, что имя его автора остается до сих пор неизвестным, хотя в настоящее время и появляются на этот счет заслуживающие внимания научные версии, одна из которых принадлежит А.М. Ломову [13]. Возможно, некоторым утешением для многочисленных читателей и почитателей гениального произведения «Слово о полку Игореве» может стать следующее высказывание российской писательницы Л.Н. Васильевой: «Не могу и не хочу знать имени автора. Допустим, уз- наю: Ходына, и сразу нет величия. Неизвестный Солдат велик тем, что он неизвестен... Неизвестный Автор велик тем же. Он множество голосов» [1, с. 26–27]. А от себя позволим добавить: ...голосов истинных патриотов, истинных сынов своего отечества.
Список литературы Средства выражения авторской модальности в "Слове о полку Игореве"
- Васильева, Л. Н. Свет из тьмы/Л. Н. Васильева//Облако огня. -М.: Современник, 1988. -С. 26-28.
- Ваулина, С. С. Авторская модальность как текстообразующая категория (к постановке проблемы)/С. С. Ваулина, О. В. Девина//Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. Серия «Филологические науки». -2010. -Вып. 8. -С. 8-13.
- Ваулина, С. С. Инфинитивные предложения как средство организации модального пространства русского былинного эпоса/С. С. Ваулина, Л. Ю. Подручная//Известия Уральского федерального университета. Серия 2, Гуманитарные науки. -2015. -№ 3 (142). -С. 227-236.
- Ваулина, С. С. Эволюция средств выражения модальности в русском языке (ХI-ХVII вв.)/С. С. Ваулина. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. -141 с.
- Виноградов, В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке/В. В. Виноградов//Избранные труды. Исследования по русской грамматике. -М.: Наука, 1975. -С. 53-88.
- Виноградов, В. В. «Слово о полку Игореве» и русская культура/В. В. Виноградов//Труды Отдела древнерусской литературы. -М.: Изд-во АН СССР, 1951. -Т. 8. -С. 11-16.
- Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования/И. Р. Гальперин. -М.: Наука, 1981. -139 с.
- Девина, О. В. Авторская модальность в произведениях А.Т. Твардовского: автореф. дис.. канд. филол. наук/Девина Ольга Владимировна. -Калининград, 2012. -24 с.
- Еремин, И. П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Древней Руси/И. П. Еремин//«Слово о полку Игореве». Исследования и статьи. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -С. 93-129.
- Капрэ, Е. Н. Субъективная модальность в древнерусских и старорусских житийных текстах: автореф. дис.. канд. филол. наук/Капрэ Елена Николаевна. -Калининград, 2011. -24 с.
- Кухаренко, В. А. Интерпретация текста/В. А. Кухаренко. -М.: Просвещение, 1988. -100 с.
- Лихачев, Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени/Д. С. Лихачев. -Л.: Худож. лит., 1988. -349 с.
- Ломов, А. М. «Слово о полку Игореве» и вокруг него/А. М. Ломов. -Воронеж: Изд.-полиграф. центр Воронеж. ун-та, 2010. -244 с.
- Опарина, А. В. Специфика проявления авторской модальности в списках «Повести временных лет» (лексико-грамматический аспект): автореф. дис.. канд. филол. наук/Опарина Алла Викторовна. -Тамбов, 2004. -17 с.
- Откупщикова, М. И. Синтаксис связного текста/М. И. Откупщикова. -Л.: Наука, 1988. -104 с.
- Пушкин, А. С. О ничтожестве литературы русской/А. С. Пушкин//Собрание сочинений: в 10 т. -М.: Худож. лит., 1976. -Т. 6. -С. 360-366.
- Рагозина, Е. В. Модальность вопросительных предложений в современном русском языке: дис.. канд. филол. наук/Рагозина Елена Владимировна. -Калининград, 2008. -186 с.
- Романова, Т. В. Модальность как текстообразующая категория в современной мемуарной литературе/Т. В. Романова. -СПб.: Изд-во СпбГУ, 2003. -295 с.
- Русская грамматика: в 2 т. -М.: Наука, 1980. -Т. II. -709 с.
- Старовойтова, Н. В. Модальность сложноподчиненных предложений со значением обусловленности в русском языке ХVII -первой четверти ХVIII века: автореф. дис.. канд. филол. наук/Старовойтова Наталья Владимировна. -Калининград, 2006. -24 с.
- Ткаченко, А. И. Текстообразующая роль модальности в газетно-публицистическом дискурсе: автореф. дис.. канд. филол. наук/Ткаченко Арина Игоревна. -Калининград, 2011. -24 с.
- Тураева, З. Я. Лингвистика текста и категория модальности/З. Я. Тураева//Вопросы языкознания. -1994. -№ 3. -С. 105-114.
- Слово о полку Игореве/подгот. текста, пер. и коммент. О. В. Творогова//Библиотека литературы Древней Руси/под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. -СПб.: Наука, 1997. -Т. 4: ХII век. -687 с.
- СлРЯ ХI-XVII вв. -Словарь русского языка ХI-XVII вв. -М.: Наука, 1981. -Вып. 8. -351 с.; 1986. -Вып. 11. -456 с.
- СТС -Современный толковый словарь русского языка/гл. ред. С. А. Кузнецов. -СПб.: Норинт, 2001. -960 с.
- Сл. Срезневского -Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка: в 3 т./И. И. Срезневский. -Репринт. изд. -М.: Книга, 1989.