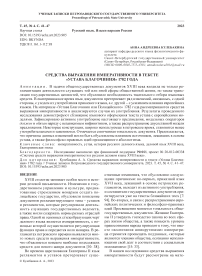Средства выражения императивности в тексте "Устава благочиния" 1782 года
Автор: Кулебакина Анна Андреевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 4 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
В задачи общегосударственных документов XVIII века входила не только регламентация деятельности служащих той или иной сферы общественной жизни, но также трансляция государственных ценностей, что обусловило необходимость тщательного отбора языковых средств. В екатерининское время язык документов претерпевает ряд изменений, связанных, с одной стороны, с уходом из употребления приказного языка, а с другой - с усилением влияния европейских языков. На материале «Устава Благочиния или Полицейского» 1782 года рассматриваются средства выражения императивности и анализируются случаи их употребления. Результаты проведенного исследования демонстрируют сближение языкового оформления текста устава с европейскими моделями. Зафиксировано активное употребление настоящего предписания, модальных операторов должен и обязан наряду с независимым инфинитивом, а также распространение двусоставной модели предложения. Некоторые конструкции, широко используемые в петровское время, становятся менее употребительными и заменяются. Отмечается смягченная тональность документа. Предполагается, что причины данных изменений могли быть обусловлены влиянием источников, лежавших в основе устава, а также философско-правовых идей просвещенного абсолютизма.
Императивность, устав, история русского делового языка, деловой язык xviii века, екатерининская эпоха
Короткий адрес: https://sciup.org/147240528
IDR: 147240528 | УДК: 811.161.1-11238 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.905
Текст научной статьи Средства выражения императивности в тексте "Устава благочиния" 1782 года
XVIII столетие занимает особое место в истории деловой письменности. Изменения в государственном управлении и культуре, продиктованные стремлением монархов создать полицейское государство, обусловили появление документов регламентирующего типа – уставов и регламентов, которые регулировали деятельность служащих государственных ведомств, а также могли содержать нормы разных отраслей права. Одной из основных стилеобразующих черт делового языка является императивность, с помощью которой осуществляется регулирующая функция права и передается воля монарха. В регламентах петровского времени выявляется много новых средств выражения императивности, что объясняется поиском наиболее подходящих средств для нового жанра документов [10: 38].
Во времена царствования Екатерины II язык регламентов и уставов претерпевает суще © Кулебакина А. А., 2023
ственные изменения, что обусловлено следующими причинами: во-первых, приказной язык XVII века, лежавший в основе петровских регламентов, выходит из активного употребления, и составители государственных документов ориентируются уже на тексты ближайших эпох [7: 94]. Во-вторых, в связи с распространением европейских политических и философско-правовых идей Просвещения меняется тональность общегосударственных документов. Желание Екатерины II утвердить господство закона во всех сферах жизни общества, а также повысить уровень правосознания народа приводит к тому, что вместо «воспитания шпицрутенами» императрица стремится просвещать подданных, «которые являются членами общества, осознанно исполняющими свой долг в соответствии с социальным положением» [15: 33].
В нашем исследовании средства выражения императивности будут рассмотрены на мате- риале Устава Благочиния или Полицейского 1782 года1, который является ярким образцом законотворческой деятельности Екатерины II и отражением ее представлений о роли полиции в государстве. Помимо описания функций, компетенций и порядка действий служащих полиции важное место в Уставе занимает разработанная система законов о гражданских и уголовных правонарушениях, что делает его важным средством модернизации общества и системы управления государством [5: 466–469].
С выражением типового коммуникативного волеизъявления создателей правовой нормы связан функционально-смысловой тип речи предписание, основной задачей которого является выражение директив и рекомендаций. «Предписание реализуется в трех основных подтипах: долженствовании, разрешении и запрещении» [12]. В зависимости от использования эксплицитных или имплицитных средств выражения императивности, а также от наличия интенсификаторов категоричность предписания в документе может быть как усилена, так и ослаблена [14: 125]. Помимо характеристики императивности как основной стилевой черты деловой речи немаловажно ее семантическое толкование. В общем виде императивность, или побуждение, понимают как «представление действия как требуемого, к которому побуждает кого-либо говорящий»2. Исходя из этого разными учеными предпринимались попытки определить основные компоненты императива и императивности. В силу формальных и содержательных особенностей императива многие исследователи не относят его к категории глагольного наклонения (данный вопрос, а также вопрос о парадигме императива подробно рассматриваются в работе [13]), но понимают под императивом выражение прямого волеизъявления говорящего «относительно невыполнения действия (или его выполнения)» [13: 69]. Таким образом, императив можно охарактеризовать как тип высказывания, выполняющий апеллятивную функцию. Императивность (повелительность), в свою очередь, представляет собой тип модального значения, которым должно обладать высказывание для того, чтобы его можно было отнести к императивным. В. Ю. Гусев в качестве компонентов императивности выделяет каузацию, лицо исполнителя, контролируемость и желательность действия [4: 21–30]. В. Ю. Стешевич вместо желательности предлагает рассматривать долженствование в качестве семантического компонента императивности3.
На наш взгляд, наиболее полное семантическое толкование императивности представлено в концепции императивной ситуации А. В. Бон-дарко. Основными элементами императивной ситуации являются:
«1) субъект волеизъявления (С1), 2) субъект – исполнитель (С2), 3) предикат, раскрывающий содержание волеизъявления, исходящего от С1 и обращенного к С2: каузируется действие, направленное на преобразование пока (в момент волеизъявления t1) ирреальной ситуации в ситуацию, которая по замыслу говорящего должна стать в результате каузируемого действия (в момент или период t2) реальной» [2: 80].
«УСТАВ БЛАГОЧИНИЯ ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 1782 ГОДА
Устав Благочиния или Полицейский состоит из 14 глав и предваряется указом Сенату, в котором разъясняются причины создания документа. Каждая глава Устава имеет буквенную индексацию и собственное название: «О должности Управы Благочинiя», «Порядок определения в должности», «Запрещенiи» и др. Названия глав в большинстве случаев оформляются при помощи предложно-падежной формы с предлогом о . Статьи Устава имеют сплошную нумерацию. Текст документа разделен на две части – конспективную, которая идет слева, и содержательную, расположенную справа.
Устав Благочиния состоит из трех частей: главы А–Г и Е–Л представляют собой первую часть документа, собственно законотворчество Екатерины, и содержат статьи, регулирующие деятельность служащих управы благочиния, а также правила разделения городов. Вторая часть Устава – глава Д, Наказ Управе Благочиния, включает в себя морально-этический кодекс для граждан и служащих, а также описание сфер ответственности полиции. Третья часть представлена двумя последними главами о запретах и взысканиях, так называемым «карательным кодексом».
В зависимости от содержания статей адресатом Устава Благочиния могли выступать как служащие управы благочиния, так и население городов.
Источником большей части положений Устава являлась глава 21 Дополнения к Наказу Уложенной Комиссии, в тексте которой были определены основные функции полиции в государстве и городе. В основу пунктов, изложенных в Наказе, лег «Трактат о полиции» французского полицейского деятеля Н. де Ла Мара.
ВЫРАЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАНИЯ
Обязывание является одним из основных семантических подтипов императивности и выражает предписание субъекта волеизъявления относительно совершения каких-либо действий, адресованное субъекту-исполнителю. Модальность долженствования, отражающая восприятие субъектом-исполнителем каузируемого действия как вынужденного, входит в зону обязывания в качестве имплицитной модальности, поскольку выражение предписания предполагает не только наложение на адресата обязательств по выполнению действия, но и появление у адресата «вынужденной необходимости», «долга» по исполнению предписания. Для выражения позитивного обязывания в Уставе Благочиния используются следующие средства: независимый инфинитив (233), повелительное наклонение (9), «да + настоящее-будущее время глагола» (28), настоящее предписания (114), «должен + инфинитив» (15), «обязан + инфинитив» (7), «надлежит» (8), «имеет + инфинитив» (21) и некоторые другие.
Количественное распределение средств показывает, что основными способами выражения обязывания в документе были независимый инфинитив и настоящее предписания в административной части, независимый инфинитив – в уголовной части. Следует отметить, что средства выражения обязывания в конспективной и основной частях Устава отличаются. Так, в большинстве случаев разнообразные средства выражения императивности, представленные в основной части, в конспективной заменяются на инфинитив, реже – на настоящее предписания:
«На частного «Жалобы по должности на част-
Пристава просить наго Пристава не принимаются; Городничего» буде же кто доказать можетъ, что не законно поступит, тотъ дол-женъ просить Городничего» (125).
В Уставе Благочиния обязывание выражается эксплицитно при помощи повелительного наклонения, что в целом не характерно для уставов и регламентов XVIII века. В нашем материале императивы употребляются в первом разделе Наказа Управе Благочиния – в Правилах Добронравия, отражающих христианские ценности и являющихся взаимными обязанностями граждан между собой:
«I. Не чини ближнему, чего самъ терпѣть не хочешь. IV Въ добромъ помогите другъ другу, веди слЪпаго, дай кровлю не имѣющему, напой жаждущего» (41).
По замечанию М. А. Соколовой, в деловых и бытовых текстах XVI–XVII веков «значимость сюжета в какой-то мере диктовала выбор того или иного способа словесного его оформления». Так, употребление повелительного наклонения в «Домострое» и «Стоглаве» встречается в текстах, содержащих религиозные предписания, а также в обращениях, исходящих от царя [11:
68]. В нашем материале Правила Добронравия имеют особое значение. Во-первых, обращает на себя внимание подражание некоторых формулировок библейским заповедям: Не чини ближнему ; Блаженъ кто и скотъ милуетъ . Высокая библейская риторика способствует возвышению образа монарха, который является адресантом Правил. Во-вторых, по замечанию Е. Н. Мара-синовой, «имперская идеология фрагментарно была запечатлена в самых разнообразных по своим социальным функциям документах» [6: 81], к которым относятся и законодательные акты. Языковое оформление Правил Добронравия способствует трансляции ценностей просвещенной монархии и усиливает их воздействие на адресата.
В Уставе Благочиния одним из основных средств выражения императивности является независимый инфинитив. Для выражения повеления инфинитив широко использовался в памятниках деловой и бытовой письменности XVI–XVII веков, а в древнерусских юридических текстах «выражал предписание, имеющее характер закона, исполнение которого обязательно» [9: 15], см. также [11: 60–61]. В Уставе Благочиния инфинитивное предложение обычно представлено простым предложением или частью сложного, например придаточным определительным или главной частью сложноподчиненного предложения. Использование независимого инфинитива в тексте Устава предпочтительно для выражения правового установления (в этой функции он особо активно используется в главе Н. Взыскания):
«Буде кто домъ свой или нанятой откроетъ днемъ и ночью всякимъ людямъ ради непотребства: съ того взыскать пеню двѣнадцати-дневное содержанiе со-держанного в смирительномъ домѣ, и сажать его въ тотъ же домъ, дондеже заплатитъ» (263), а также в текстах инструкций в административной части Устава:
«...то пятое, учинить приговоръ обнародованiя, потомъ шестое, прочесть в Присутствiи; за тѣмъ седьмое, прочесть при открытыхъ дверяхъ Частнымъ Приставамъ и Квартальнымъ Надзирателямъ…» (51).
Субъект-исполнитель может быть выражен дательным падежом при инфинитиве. Отсутствие в предложении указания на субъект придает предписанию обобщенный характер. Как отмечает ряд исследователей, семантика инфинитива не является однородной и выражает широкий спектр модальных, в том числе императивных модальных, значений. Однако, по замечанию Ю. А. Ряжской, существует ограничение на выражение побуждения инфинитивом в составе при- даточного, что обусловлено структурно-семантическими особенностями сложноподчиненного предложения4. Для инфинитива в составе придаточного определительного в большей степени характерна семантика долженствования.
Текст санкций за особо серьезные преступления часто сопровождается речевыми формулами ( какъ законы повелеваютъ, какъ въ законѣ написано, какъ закономъ предписано ) вместо описания самого наказания, что значительно смягчает тональность документа. Кроме того, данные речевые формулы работают в тексте как отсылки к более ранним законодательным актам, что позволяет избежать громоздких конструкций.
Для регламентации действий служащих управы благочиния в конкретной ситуации, а также для выражения общего должностного предписания в Уставе Благочиния часто используются двусоставные предложения с модальным оператором «иметь» в сочетании с инфинитивом:
«Частный Приставъ въ случаѣ уголовнаго преступ-ленiя личнаго имѣетъ изслѣдовать » (105); «Квартальный Надзиратель имѣетъ смотрѣть , чтобъ всѣ и всякiй въ его кварталѣ остался въ законо-предписанномъ порядкѣ» (153).
В древнерусском языке данная конструкция помимо значения будущего времени могла выражать ряд модальных значений, в том числе значение «вынужденного долженствования» [3: 354]. Несмотря на активное использование конструкции «иметь + инфинитив» в регламентах начала Петровской эпохи, со временем она становится менее употребительной из-за размытости модального значения [10: 42].
Для выражения процедурных и должностных предписаний в тексте Устава используются модальные операторы «должен» и «обязан» в сочетании с инфинитивом в составе двусоставных предложений с личным подлежащим:
«Квартальный Надзиратель долженъ вѣдать о всѣхъ въ кварталѣ его вѣдомства живущихъ людяхъ; чего ради хозяева домовъ, или ихъ повѣренные обязаны всегда давать знать Квартальному Надзирателю о всѣхъ къ нимъ на житье приѣзжающихъ…» (156).
Модальный оператор «обязан», малоупотребительный в петровское время, был точной калькой немецкого причастия verbunden , и его распространение в Екатерининскую эпоху, вероятно, связано с влиянием немецких источников.
В петровское время для выражения долженствования широко использовалось сочетание безличного глагола «надлежит» с инфинитивом. Данная конструкция встречалась преимущественно в главной части сложноподчиненных предложений [10: 41]. В Уставе Благочиния «надлежит» употребляется исключительно в придаточных предложениях в составе модальных оборотов:
«…то Управа Благочинiя должна (буде не от-дастъ добровольно) отослать его къ суду, куда по за-конамъ надлежит » (35).
К имплицитным способам выражения обязывания в Уставе Благочиния относятся настоящее предписания и конструкция «да + настоящее-будущее время». Употребление личных форм глагола предпочтительно в контекстах, связанных с описанием должностных обязанностей государственного учреждения или должностного лица:
«Управа Благочинiя принимает указы и повелѣнiя отъ Государева Намѣстника, или Главнокомандующа-го, Губернатора, Правленiя Губернскаго и Палат, и къ онымъ посылаетъ рапорты и доношенiя » (73).
Распространение настоящего предписания, а также наличие субъекта в конструкциях с модальными операторами «должен», «обязан», «имеет» свидетельствуют о закреплении двусоставной модели предложения для выражения предписания в инструктивных текстах.
В некоторых статьях Устава настоящее предписания используется для уточнения или более подробного изложения должностных обязанностей, введенных в текст конструкцией «имеет + существительное», которая используется для описания сфер ответственности управы благочиния и ее служащих.
«Частный Приставъ имѣетъ попеченiе о призрѣнiя убогихъ его части, и оныхъ покровительствуетъ и за-щищаетъ отъ обидъ, притесненiя и насилiя, и достав-ляетъ неимущимъ честное пропитанiе…» (119).
Распространение конструкции «иметь + существительное» в Уставе Благочиния, на наш взгляд, может быть объяснено влиянием общеевропейских моделей (фр. avoir и нем. haben в сочетании с существительным).
Церковнославянская конструкция «да + форма настоящего-будущего времени глагола» носит книжно-литературный характер и имеет семантику, близкую к семантике повелительного наклонения: в церковнославянских текстах она использовалась для передачи греческого императива 3-го лица [9: 16–17]. В тексте Устава сочетание частицы «да» с формами настоящего и будущего времени используется для выражения правовых норм в сложноподчиненном предложении с придаточным условия:
«Буде кто въ части домъ построитъ или ломать хочетъ… да объявитъ о томъ частному маклеру» (179)
или для выражения обобщенного предписания:
«… да войдутъ во храмъ Божiй со благоговѣнiемъ, и да пребываютъ во ономъ во время службы Божiей со страхомъ въ молчанiи…» (59).
ВЫРАЖЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
В Уставе Благочиния разрешение выражается при помощи двусоставных и односоставных предложений. В односоставных предложениях используется сочетание инфинитива с (квази) безличными формами дозволяется, не запрещается или глагольно-именным оборотом «дается право»:
«то дозволяется гражданамъ избрать изъ посто-роннихъ чиновныхъ людей и съ аттестатами представить Городничему» (27).
Частотный в Петровскую эпоху глагол позволяться становится редким и заменяется на дозволяться .
В двусоставных предложениях для выражения разрешения используются глагол «дозволять» в форме настоящего времени, а также описательный глагольно-именной оборот «имеет право». Субъект в таких конструкциях часто выражен наименованием должности или органа власти: Городничий дозволяет, Управа Благочинiя право имеет .
Описательный глагольно-именной оборот «имеет право» выражает разрешение, основанное на нормах и правилах, которые закреплены в документах и регулируют поведение людей [8: 47]. Данная конструкция, получившая распространение в екатерининское время, была калькой французских ( avoir le droit ) и немецких конструкций ( Recht haben ) и, вероятно, отражала влияние разрешительного права, которое формируется в данную эпоху.
ВЫРАЖЕНИЕ ЗАПРЕТА
В Уставе Благочиния отмечается следующее распределение средств выражения запрета. В административной части запрет выражается независимым инфинитивом с отрицанием, формами настоящего времени глагола «дозволять» с отрицанием, оборотом «имеет чинить запрещение» и некоторыми другими:
«Словеснаго Суда Правленiю, Палатамъ, Губернскому Магистрату и Городовому магистрату не отя- гощать другими повѣленiями, какъ только такими, кои до должности его касаются; и другихъ указовъ въ оной не насылать…» (174).
В «карательном кодексе» запрет выражается формой настоящего времени глагола «запрещается», а также конструкциями «подтверждается (и возобновляется) запрещение», которые были немецкими кальками Verbot bestätig(e)t / eingeschärft (und erneuert) :
« Запрещается въ городѣ безъ дозволенiя Управы Благочинiя разыгрывать вещь, или книги, или товаръ, или лошадь, или иное что…» (218); « Подтверждается и возобновляется запрещенiе учинить уголовныя преступленiя противу обитанiй, какъ то: 1) пожегъ обитанiй, 2) воровство со взломомъ. См: взысканiй статью 268» (226).
В Уставе Благочиния инкриминирующие составы и санкции разнесены по разным главам, что отражает влияние уголовно-правовой мысли английского Просвещения [1: 11–14]. Каждая запретительная статья сопровождается ссылкой на статью взыскания, что делает текст более компактным и лаконичным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В системе средств выражения императивности, а также в языковом оформлении Устава отмечаются следующие особенности: активизация славянизмов, широкое использование германизмов и галлицизмов, распространение настоящего предписания и закрепление двусоставной модели предложения. Отмеченные тенденции могут быть обусловлены влиянием оригинальных текстов европейского Просвещения, которые лежали в основе большинства положений Устава Благочиния.
Императивную тональность Устава можно охарактеризовать как смягченную. В тексте отсутствуют угрозы жестокого наказания, транслируются христианские ценности, а регулятивные положения дополняются нравоучениями, что соответствовало идеологии просвещенного абсолютизма и способствовало реализации воспитательной функции устава.
Выявленные языковые черты позволяют говорить о том, что Устав Благочиния представляет собой документ, приближенный к европейским образцам.