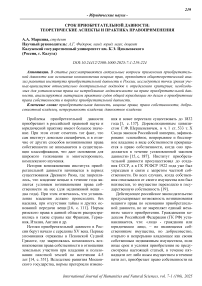Срок приобретательной давности: теоретические аспекты и практика правоприменения
Автор: Маркина А.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные вопросы применения приобретательной давности как основания возникновения вещных прав, проводится общетеоретический анализ развития института приобретательной давности в России, исследуются точки зрения ученых-цивилистов относительно доктринальных подходов к определению критериев, необходимых для установления права на истребование недвижимости на праве приобретательной давности, анализируются материалы практики судов общей юрисдикции по делам о приобретении права собственности в порядке приобретательной давности.
Приобретательная давность, вещные права, право собственности, добросовестный владелец, непрерывность владения, давностное владение
Короткий адрес: https://sciup.org/170210758
IDR: 170210758 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-219-224
Текст научной статьи Срок приобретательной давности: теоретические аспекты и практика правоприменения
Проблемы приобретательной давности приобретают в российской правовой науке и юридической практике имеют большое значение. При этом стоит отметить тот факт, что сам институт довольно специфичен, и в отличие от других способов возникновения права собственности не вписывается в существующие классификации, что дает основания для широкого толкования и многостороннего, комплексного изучения.
История возникновения института приобретательной давности начинается в период существования Древнего Рима, где закреплялось, что владение вещью в течение года является условием возникновения права собственности на нее (для недвижимой вещи – два года). При этом отмечалось, что установление владения должно происходить без насилия, при отсутствии тайны и других оснований передачи вещи [16, с. 111]. Нормы римского права в данной области распространились в такие страны как Франция, Германия, Италия, Англия и др.
Истоки приобретательной давности в России берут начало с середины XV века. Первые упоминания отражены в Псковской Судной Грамоте, где закреплялась возможность возникновения права собственности в отношении земельных участков при владении и пользовании пахотной землей по истечении 4-5 лет [14, с. 351]. Вследствие развития Московского государства, нормы претерпели измене- ния и вовсе перестали существовать до 1832 года [1, с. 137]. Дореволюционным цивилистом Г.Ф. Шершеневичем, в ч. 1 ст. 533 т. X Свода законов Российской империи, зафиксировано: «спокойное, непрерывное и бесспорное владение в виде собственности превращается в право собственности, когда оно продолжится в течение установленной законом давности» [15, с. 187]. Институт приобретательной давности просуществовал до создания СССР, а в ГК РСФСР 1922 года уже был упразднен в связи с запретом частной собственности. Во всех случаях, когда собственник отказывался от своего имущества или был неизвестен, то имущество переходило в государственную собственность [19].
Действующее российское законодательство предусматривает возможность возникновения вещного права по основанию приобретательной давности, но не закрепляет единый механизм такого приобретения. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) устанавливается, что: «лицо - гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)» [1, ст. 234].
Немецкий ученый второй половины XIX в. П. Эртманн в своей работе «Основы учения о видимости права» говорит о том, что приобретательная давность становится основанием возникновения права как раз там, где отсутствует возможность мгновенного добросовестного приобретения на основании видимости права и подчиняется более сложным условиям [17, с. 273].
Среди критериев так называемого давностного владения следует выделять такие понятия, как: открытость, непрерывность и добросовестность.
При этом, несмотря на доктринальную разработанность содержания критериев приобретательной давности, стоит отметить, что до сих пор есть неопределенность в определении добросовестности и открытости давности владения.
В российской науке, как отмечает В.А. Багаев, давностное владение признается добросовестным, если владелец не знал и не должен был знать о том, что он не является собственником [6, с. 163]. Таким образом, можно говорить о том, что автор отмечает тенденцию к толкованию понятия добросовестность в широком смысле. При этом, стоит отметить, что закрепленное юридической практикой (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [2]) определение понятия добросовестности совпадает с доктринальным. Ю.К. Толстой указывает на то, что чрезмерно требовать от давностного владельца, чтобы он в течение всего периода владения не знал и не должен был знать об отсутствии у него права собственности на имущество [18, с. 515].
Стоит отметить точку зрения И.А. Мань-ковского, считающего, что исходя из толкования ст. 234 ГК РФ, добросовестным следует признать такое владение, которое характеризуется как владение вещью, поступившей к давностному владельцу вне связи с ее законным или незаконным отчуждением, осуществляемое так же, как своими собственны- ми вещами, открыто и непрерывно в течение всего срока установленного соответствующей нормой ГК РФ [12, с. 162]. Соответственно, И.А. Маньковский под добросовестным приобретением понимает, что давностный владелец, в отличие от добросовестного приобретателя, изначально понимает и осознает факт незаконного владения вещью, т.е. вещью, право собственности, на которую принадлежит третьему неизвестному лицу [13, с. 68]. В этой связи, факт открытого владения логически вытекает из добросовестности владения, который должен быть явным для всех окружающих, в том числе и для действительного собственника.
По этому поводу интересно утверждение советской и российской ученой М.Г. Масевич, которая считает, что даже недобросовестный приобретатель, осознающий неправомерность владения чужой собственностью, потенциально может обрести право собственности, при условии добросовестного осуществления владения. По мнению этого исследователя, осведомленность о незаконности владения не обязательно исключает добросовестность. Исключением должны служить ситуации, когда владение стало незаконным вследствие нарушения уголовного законодательства, например, из-за фальсификации документов, устанавливающих право собственности.
Владелец, приобретающий имущество по давности владения, осознает, что владеет чужой собственностью, но при этом не имеет возможности установить ее законного владельца, проявляя добросовестное бездействие, не препятствуя обнаружению собственником принадлежащего ему имущества [12, с. 68].
Трудности в толковании заключаются и при понимании критерия открытости. Критерий открытости проявляется в давностном владении, когда лицо не скрывает нахождения имущества в его владении [7, с. 333]. Также М.Г. Масевич отмечает, что ст. 234 ГК РФ не требует для приобретения имущества по приобретательной давности, чтобы владелец осуществлял активные действия, обеспечивающие информацию для всеобщего сведения о находящемся в его владении чужом имуществе [9, с. 74].
Одним из ключевых требований для признания приобретательной давности является непрерывность владения. Владение признает- ся давностным только тогда, когда оно продолжалось на протяжении всего установленного срока [10, с. 28].
Таким образом, можно говорить о том, что право приобретательной давности – довольной специфический институт гражданского права, достаточно узко регламентированный в рамках действующего гражданского законодательства (ст. 234 ГК РФ). При этом, доктринально достаточно широко разработаны содержание критериев приобретательной давности, в числе которых добросовестность, вызывающее двойственность толкования, открытость и непрерывность.
Переходя к анализу практики правоприменения, стоит отметить, что согласно судебным актам высших судебных органов Российской Федерации, давностный владелец всегда является незаконным владельцем, поэтому к нему неприменима ст. 305 ГК РФ. В пункте 17 Постановления № 10/22 [2] содержится интерпретация п. 2 ст. 234 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой, лицо, владеющее имуществом в течение срока, необходимого для приобретения права собственности по давности, имеет право защищать свое владение от посягательств третьих лиц, не являющихся собственниками или законными владельцами этого имущества. На основании этого, в Постановлении делается заключение о том, что давностный владелец вправе использовать механизмы защиты, предусмотренные статьями 301-304 ГК РФ. Более того, при рассмотрении иска об истребовании имущества из незаконного владения, инициированного давностным владельцем, суд должен учитывать положения статьи 302 ГК РФ, если ответчик выдвигает соответствующие возражения. Иными словами, защита владения давностного владельца приравнивается к защите права собственности с некоторыми оговорками.
Е.А. Останина проводит параллель между добросовестным владельцем, определяемым ст. 234 ГК РФ, и добросовестным приобретателем, упомянутым в ст. 302 ГК РФ. Согласно её точке зрения, для защиты от претензий собственника, владелец, выступающий в роли ответчика, должен подтвердить добросовестность и факт оплаты при получении имущества. При этом, собственник, выступающий истцом, должен будет опровергнуть тот факт, что имущество было утрачено им или тем, кому он доверил это имущество, не по своей воле.
В то же время, для защиты своих прав от третьих лиц, владельцу потребуется продемонстрировать гораздо большее количество обстоятельств, которые в законодательстве описываются как оценочные категории. К таким обстоятельствам относятся открытый характер владения, его непрерывность, а также отношение владельца к имуществу как к своей личной собственности.
Согласно разъяснению позиции судов в Постановлении №10/22 [2] под данной категорией понимается владение не по договору. По этой причине ст. 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.) [8].
Правоприменительная практика по делам о признании права собственности на основании приобретательной давности складывается неоднозначно, о чем могут свидетельствовать следующие примеры:
В первом случае, когда отсутствует спор о праве собственности на земельный участок с жилой постройкой в ДНТ «Мичуринец-3», так как к фактическому владельцу никто за все время владения и пользования земельным участком не обращался с требованием об изъятии у нее выделенного земельного участка, о сносе объекта недвижимости, на данный жилой дом никто не претендует, суд исковые требования удовлетворил, признал право собственности истца на спорный земельный участок и жилой дом [3].
Во втором случае, истица обратилась в суд с иском о признании в порядке приобретательной давности права собственности на квартиру и земельный участок под ней. Исковые требования мотивированы тем, что приватизация квартиры прежним владельцем осуществлялась через сельскую администрацию без последующей регистрации в ЕГРН. После его смерти, сыновья до вступления в наследство без заключения договора купли-продажи по расписке о передаче денежных средств, продали истице. С тех пор она открыто, добросовестно и непрерывно владеет квартирой, несет бремя ее содержания. Никаких претензий по поводу квартиры к истице никто с момента ее приобретения до настоящего времени не предъявлял и не предъявляет.
Суд учел тот факт, что собственник квартиры умер, право собственности на спорный объект недвижимости – квартиру и земельный участок до настоящего времени ни за кем не зарегистрировано, а в открытом и постоянном владении истицы спорная квартира находится более 18 лет, удовлетворил исковые требования частично. Суд признал за истицей в порядке приобретательной давности право собственности на квартиру, отказав в удовлетворении исковых требований о признании права собственности в порядке приобретательной давности на земельный участок.
Данный пример иллюстрирует необходимость соблюдения процессуальной формы оформления недвижимых вещей в собственность, а также соблюдение требований ст. 234 ГК РФ в части их необходимости для признания права собственности по приобретательной давности. По сути, у истицы отсутствовало право на иск о признании права собственности на земельный участок в порядке приобретательной давности [4].
В третьем случае, истец обратился в суд с исковым заявлением к местной администрации, в котором просит признать право собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности, мотивируя тем, что земельный участок был приобретен им более сорока лет назад. Договор, по которому истец приобретал указанный земельный участок, им утерян, право собственности на земельный участок истцом не зарегистрировано. С 1970-х годов истец открыто, добросовестно и непрерывно владеет и пользуется указанным земельным участком как своим собственным, использует не ухудшая его целевое назначение и поддерживая земельный участок в состоянии, пригодном для его использования по назначению: под огороды. Каких-либо требований об освобождении оспариваемого имущества ни разу со стороны ответчика не поступало за весь период владения имуществом. Ответчик знал, что истец является пользователем имущества, открыто и добросовестно пользуется оспариваемым имуществом.
В силу этих обстоятельств, истец полагал, что имеет законные основания стать соб- ственником указанного объекта в силу приобретательной давности.
Однако доводы истца о том, что спорный земельный участок был куплен находился в его пользовании с 1970-х годов опровергаются пояснениями ответчика, согласно которым в похозяйственной книге местной администрации отсутствуют сведения о выделении данного земельного участка истцу, а также не подтверждаются письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела.
Суд решил, что в условиях действующей презумпции государственной собственности на землю и наличия на территории Российской Федерации значительного количества нераспределенной земли сама по себе не-сформированность земельного участка и отсутствие государственной регистрации права собственности публичного образования на него не означает, что соответствующее публичное образование фактически отказалось от своего права собственности или проявляет безразличие к правовой судьбе этого земельного участка.
Соответственно, для любого добросовестного и разумного участника гражданских правоотношений должно быть очевидным, что земли, на которых земельные участки не сформированы и не поставлены на кадастровый учет, относятся к государственной собственности и что само по себе отсутствие такого учета не свидетельствует о том, что они являются бесхозяйными. Истец не представил доказательств совершения юридически значимых действий, направленных на приобретение участка, и он не мог не знать об отсутствии прав на участок. Таким образом, суд в удовлетворении исковых требований отказал [5].
Как мы видим, в отличие от ранее рассмотренных примеров, по данному гражданскому делу суд установил отсутствие оснований, предусмотренных ст. 234 ГК РФ и необходимых для признания права собственности по приобретательной давности.
По этому поводу рассмотренного случая, можно согласиться с мнением отдельных авторов о том, что нельзя говорить о бесхозяйной вещи, когда предыдущий собственник своего права не лишен, а в момент, когда он лишается своего права, вступает в свои права на имущество новый собственник. Таким об- разом, вещь, правообладатель которой не установлен, только предполагается потенциально ничьей, являюсь при этом собственностью этого неустановленного владельца [8, с. 95].
В заключение можно сказать, что история становления приобретательной давности в России существенно отстает от зарубежных стран, связано это с отрицанием частной собственности в советский период. В теории гражданского права приобретательную давность принято относить к первоначальным основаниям приобретения права собственности, однако, это вполне можно подвергнуть сомнению, так как речь идет о приобретении права собственности на имущество, имеющего владельца, который как правило, привлекается в качестве ответчика по иску. Когда речь идет о применении института приобретательной давности к имуществу, имеющему хозяина, утверждение об изначальном возникновении права собственности представляется несостоятельным. Соответственно, можно говорить о том, что приобретательная давность может являться как первоначальным, так и производным способом приобретения права собственности.
В целом, институт приобретательной давности представляет собой сложный юридиче- ский состав, включающий в себя несколько юридических фактов-условий, необходимых в совокупности для возникновения права собственности у давностного владельца, среди которых добросовестность, открытость, непрерывность, владение как собственной вещью. Причем стоит отметить, что данные категории оспоримы и имеют различное толкование в доктринальных исследованиях.
Правоприменительная практика по делам о признании права собственности на основании приобретательной давности складывает непросто. Хотя законодательство допускает рассмотрение дел, касающихся приобретательной давности, в порядке особого производства, большинство гражданских дел этой категории, при отсутствии спора, рассматриваются в порядке искового производства. Это приводит к неэффективному разрешению проблемы правовой неопределенности в отношении имущественных прав, используя наиболее дорогостоящий для сторон способ, что противоречит принципу процессуальной экономии. Данная ситуация сложилась пре- имущественно из-за толкования, представленного в пункте 19 Постановления Пленума № 10/22, которое указывает на необходимость рассмотрения дела в исковом порядке при известности собственника имущества.