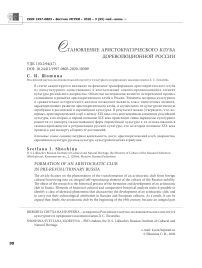Становление аристократического клуба дореволюционной России
Автор: Шошина Светлана Игоревна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Русская философия и культура
Статья в выпуске: 3 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье акцентируется внимание на феномене трансформации аристократического клуба из инокультурного заимствования в неотъемлемый самовоспроизводящийся элемент культуры российского дворянства. Объектом исследования является исторический процесс становления и развития аристократического клуба в России. Элементы историко-культурного и сравнительно-исторического анализа позволяют выявить класс идентичных явлений, характеризующих развитие аристократического клуба, и осуществить их культурологическую атрибуцию в российской и европейской культурах. В результате можно утверждать, что, во-первых, аристократический клуб к началу XIX века стал неотъемлемым элементом российской культуры, а во-вторых, в первой половине XIX века происходит смена парадигмы культурного развития от импорта (заимствования) форм европейской культуры к их использованию в самовоспроизводстве и ретрансляции русской культуры, что во второй половине XIX века привело к уже экспорту в Европу её достижений.
Социокультурная деятельность, досуг, аристократический клуб, дворянство, европейская культура, русская культура, культурологическая атрибуция
Короткий адрес: https://sciup.org/144161374
IDR: 144161374 | УДК: 130.2:94(47) | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10309
Текст научной статьи Становление аристократического клуба дореволюционной России
В отечественной теории досуговой и социокультурной деятельности достаточно много внимания уделяется осмыслению позитивного опыта советской клубной системы (Ю. А. Стрельцов [16], Г. Н. Яковлева [23], Н. Г. Кулинич [10], Т. М. Смирнова [15] и другие). Исторический аспект развития клубов и вольных обществ в дореволюционный период часто выпадает из орбиты внимания в силу серьёзных различий отношения власти к клубам в царское и советское время. Хотя целостный социокультурный подход к феномену клуба (В. В. Туев [17], Л. В. Завьялова [7], Н. Н. Ярошенко [24] и другие) раскрывает исторические истоки клубного движения как неотъемлемого са-мовоспроизводящегося элемента культуры. В частности, один из основоположников современной отечественной теории социокультурной деятельности заслуженный работник культуры России, доктор педагогических наук, профессор В. В. Туев отмечает: «Истоки … клуба восходят к древнегреческим гетериям, древнеримским коллегиям, английским кофейням, русским трактирам … Изучение антологии клубной жизни даёт знания не только о прошлом клуба, но и основательно оснащает нас в настоящем, позволяет более вариативно конструировать будущие модели клуба» [17, с. 3–4]. Развивает эту мысль доктор педагогических наук, профессор Н. Н. Ярошенко: «Истори- ческие исследования социально-культурной деятельности являются основой для формирования прогноза дальнейшего развития этого явления в России» [24, с. 115], – подчёркивая, что они (исследования) призваны «закреплять, накапливать и трансформировать социальный опыт, передаваемый в особых формах самодетерминированной деятельности людей в условиях свободного времени» [24, с. 123].
Исходя из общей сверхзадачи теории социокультурной деятельности, хотелось бы акцентировать внимание на трансформации аристократического клуба из инокультурного заимствования в неотъемлемый самовоспроизводящийся элемент культуры российского дворянства.
Объект исследования – исторический процесс становления и развития аристократического клуба в России. Предмет исследования – трансформация заимствованной культурной формы аристократического клуба в культурную традицию российского дворянства.
Методология исследования опирается на деятельностный и функциональный подходы анализа явлений культурной жизни, позволяющие идентифицировать отдельные её элементы по функциональной нагрузке (М. С. Каган [8], В. В. Туев [17], А. Я. Фли-ер [20] и другие), с учётом разработанности социокультурной теории праздного клас-
L
са [5], антропологической концепции обрядов перехода [4], культурологических представлений о сущности культурной жизни [9] и её практической реализации [6]. Элементы историко-культурного и сравнительно-исторического анализа позволяют не только выявить класс идентичных явлений, но и осуществить их культурологическую атрибуцию в рамках сложившихся представлений о различных культурных системах. В силу того, что применяемый метод культурологической атрибуции пока остаётся в недостаточной степени отрефлек-сирован, в том числе есть расхождения в его наименовании: «культурная» [19, с. 139] или «культурологическая» [2, с. 284] атрибуция, – уточним его особенности.
Отечественный культуролог, один из ведущих теоретиков Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, доктор философских наук, профессор А. Я. Флиер на базе деятельностного подхода оперирует понятиями культурного артефакта [11, с. 34] и культурной формы [12, с. 307]. Первый является продуктом культурной деятельности по реализации некоторой абстракции, идеи данного продукта. В теоретическом плане культурная форма или форма культуры является абстрактным конструктом типических свойств множества реальных артефактов, обладающих общими и уникальными свойствами, то есть абстракцией, идеей, феноменом нематериальной культуры. А в повседневности, как отмечает Г. В. Бакуменко, подобный уровень абстрактного представления о реальности реализуется в придании конкретным артефактам общих атрибутивных свойств в непосредственной деятельности [3, с. 21– 22]. Прежде всего речь идёт о процедуре соотнесения некоторого артефакта, в на- шем случае клуба, с определённой культурой (или культурами). Как указывает А. Я. Флиер, в отличие «от художественной и исторической атрибуции, стремящихся к установлению индивидуальных признаков каждого объекта» [19, с. 140], данная процедура устанавливает типичные свойства и их нормативность, но вместе с тем отличается от типологизации, поскольку нацелена не столько на комплексное структурирование наблюдаемых свойств объекта, сколько на изучение его «культурно значимых свойств по степени их выраженности и функциональной эффективности в разных объектах» [19, с. 140]. Если А. Я. Флиер подробно описывает данный метод и отграничивает его от схожих в теоретическом знании, то Г. В. Бакуменко обосновывает терминологическое уточнение, отграничивая теоретический метод от аналогичных мыслительных процедур в повседневности, и приходит к заключению, что в обыденном опыте подобную процедуру уместнее считать культурной атрибуцией, а в теоретическом – культурологической [3, с. 22.].
Последнее уточнение представляется уместным, поскольку, безусловно, в исторической повседневности члены клубов так или иначе ассоциировали себя с уникальной клубной атрибутикой, что влияло на их персональную и коллективную аккультурацию некой культурной формы, на реализацию её в культурном артефакте. То есть культурная атрибуция, и в этом мы согласны с Г. В. Бакуменко, обнаруживается как элемент культурной жизни, а для теоретической процедуры, в том числе уточняющей культурные истоки обыденной культурной атрибуции (cultural attribution) , необходим более точный термин – культурологическая атрибуция (culturalogical attribution) .
Выделяя наиболее раннее столетие в развитии институтов отечественного гражданского общества (1760–1860), некоторые учёные справедливо полагают определённым Рубиконом прецедент легализации в 1765 году Вольного экономического общества [14], очевидно существовавшего до его официального признания на общественных началах в форме светского клуба. То, что вслед за этим узаконивается статус Петербургского Английского клуба (1777), имевшего свою предысторию, позволяет судить и о предыстории экономического общества, тем более что по меньшей мере два обстоятельства свидетельствуют о справедливости предположения.
Во-первых, многие европейские культурные обычаи в российском светском обществе были «посеяны» Петром I, включая традицию аристократического клуба, которая первоначально была тесно связана с бальной культурой. Но уже в эпоху Дворцовых переворотов (1725–1762) [1] аристократический клуб, проявивший себя в том числе и в качестве грозной политической силы, существует как самостоятельный социокультурный феномен, имеющий чётко очерченные структурные контуры самоорганизации.
Ассамблеи Петра Великого были вплетены в официальную придворную жизнь. И немаловажную роль в их популяризации в аристократических кругах сыграл «парад статусов»: сам Император был статусным центром, затем шёл его ближний круг, который формировался уже не по роду, как в Московии, а по вкладу каждого в продвижение великих реформ, то есть в величие (в статус) Петра и Российской империи, периферия же формировалась из остальных, претендующих и стремящихся к приближению к персоне Императора. Организация светских приёмов, включавших балы, застолья и увеселительные мероприятия по примеру дворцовых ассамблей, уже при Петре стала популярным аристократическим занятием, опиравшимся на «парад статусов», в центре которого оказывался организатор «веселья». Отдельные фавориты (победители «парада статусов») среди организаторов многочисленных ассамблей определялись богатством и статусным уровнем собравшихся на мероприятие. Механизм социальной самоорганизации клубной культуры, таким образом, был запущен ещё Петром. Аристократический клуб формировался вокруг центральной фигуры (фаворита ассамблей) и со временем преодолевал рамки отдельного мероприятия. Вокруг наиболее популярных ассамблей разворачивались незримые баталии (мероприятия по подготовке к предстоящему балу) стремящейся к возвеличиванию и утверждению собственного светского статуса аристократии. Ближний круг ассамблеи и был прототипом светского клуба, в который стремились попасть все остальные. В результате, как замечает А. В. Шипилов, ко времени восшествия Екатерины Великой на престол «официальные служебные и частные родственно-товарищеские отношения теснейшим образом переплетались друг с другом – непотизм был нормой и неизбежным следствием специфики дворянского образа жизни» [21, с. 171].
Во-вторых, через «прорубленное окно» в светскую жизнь Петербурга хлынул и поток представителей тайных обществ, составлявших важную часть общественно-политической жизни Европы ещё со времени раннего Средневековья [22]. Так, например, тайная связь «Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands, and Places unknown» [13, с. 286], имевшей беспрецедентную торговую монополию на российских землях и существенные привилегии ещё со времён Ивана Грозного (Muscovy Company, 1551), благодаря поставкам английского пороха и огнестрельного оружия, с лидерами индепендентов спровоцировала Алексея Михайловича Тишайшего на закрытие Английского дома в Москве и изгнание концессионеров этой компании из столицы под страхом жестокой расправы [25, p. 231–234]. С тех пор Москва вплоть до смены её столичного статуса яростно боролась с любыми «европейскими обществами», видя в них угрозу тесной связи православной церкви и монархии. Противостояние же Петра с церковниками, продиктованное его стремлением добиться европейского признания российской монархии в ряду ведущих держав, образовало нишу для светского общества за пределами церкви, в которой и развернулись тайные дипломатические и политические интриги. В центре этих интриг оказывались не только официальные иностранные дипломаты, но и миссионеры европейских тайных обществ, представлявшие (часто, но не исключительно) одно и то же лицо. Они-то и использовали сложившиеся в Европе клубные формы формирования тайных «политических партий» для достижения собственных целей.
Диспозиция европейских культур российской позволяет феномен российского аристократического клуба атрибутировать с европейским влиянием. Результатами интервенции европейской культуры в сферу российского дворянства стало, с одной стороны, формирование и укрепление светского общества за пределами церкви, а с другой – языковая и культурная ассимиляция российского дворянства, формирование особой аристократической идентичности, вы- раженной не только в организации досуга на европейский манер, но и разрывом семантических связей с традиционными для Московии культурными практиками.
Культурные трансформации дворянства в доекатерининскую эпоху носили сложный синкретичный, но многоплановый характер. Политизация аристократического клуба в борьбе за петровское наследие свидетельствует в том числе о синкретизме культурной и политической жизни придворного общества. Вернее было бы идентифицировать феномен постпетровского периода, как протоклуб – прототип аристократического клуба, расцветшего в полной мере уже при Екатерине I. Основной характерной чертой протоклуба следует обозначить именно синкретизм досуговых, матримониальных, просветительских, политических, дипломатических и прочих культурных практик, в рамках которых он формировался как устойчивое социокультурное явление, приведшее позже к дифференциации аристократического клуба по различным интересам.
Обозначив полувековой период становления российского аристократического клуба (протоклуба) в доекатерининскую эпоху, нельзя не отметить, что столетие развития аристократического клуба вплоть до отмены крепостного права не однородно. Значительным историческим событием стала Отечественная война 1812 года, результаты которой повлияли как на положение России в международном пространстве, так и на внутренние социокультурные процессы.
Волна патриотических чувств, охватившая аристократическое общество в начале XIX века, заставила его вспомнить родной язык («Дружеское литературное общество», «Дружеское общество любителей изящного» (1801), «Арзамасское общество безвестных людей», известного как «Арзамас» (1815–1818), целью которого изначально была ирония и сатира в адрес литературного общества «Беседа любителей русского слова» (1811–1816) Г. Р. Державина [18]). Москва не только сохранила накопленный уникальный потенциал русской культуры, но и постепенно составила оппозицию «европейничеству» Северной Пальмиры. Чрезвычайно тонко Л. Н. Толстой в своей бессмертной эпопее «Война и мир» обрисовывает то, как светское российское общество сызнова училось мыслить по-русски (по-московски). Толстой в своём романе свидетельствует в том числе и о том, что аристократический клуб к началу XIX века выделился из бальной культуры и избавился от моды на «заговоры» эпохи дворцовых переворотов. Он обрёл свою уникальную форму частного досугового «салонного» учреждения (как для мужчин, так и для женщин) в пространстве культурной жизни российской аристократии и важную социальную функцию ретранслятора этических и эстетических норм дворянства. Принятие молодого дворянина в клуб стало частью его социализации, девицы же только после замужества могли посещать «салоны» известных дам или орга- низовывать собственные. Содержательную сторону клубного досуга аристократии составляли настольные игры, поэтические рауты, музицирование, обсуждение книг, философствование, театральные постановки и «капустники», представления (беседы-знакомства) знаменитостей (среди которых были поэты и литераторы, артисты, учёные и философы, военачальники и путешественники). Успех дебюта начинающего литератора или артиста в одном из таких салонов означал начало карьеры художника в российском обществе.
Таким образом, во-первых, аристократический клуб к началу XIX века стал неотъемлемым самовоспроизводящимся элементом культуры российского дворянства, а во-вторых, в первой половине века происходит смена парадигмы культурного развития от импорта (заимствования) форм европейской культуры к их инструментальному использованию в механизмах само-воспроизводства и ретрансляции русской культуры, что во второй половине века привело к уже экспорту в Европу достижений отечественной художественной культуры. Роль аристократического клуба в своего рода ре-русификации дворянства трудно переоценить.
Список литературы Становление аристократического клуба дореволюционной России
- Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века : Борьба за наследие Петра. Москва : Мысль, 1986. 239 с.
- Архангельский Ю. Е., Найденко М. К., Лях В. И. Сущностные противоречия советской культуры // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 31. C. 282-293. DOI: 10.17223/22220836/31/29
- Бакуменко Г. В. Символизация успеха в современном кинематографе : дис. на соискание учёной степени кандидата культурологии : 24.00.01 / Бакуменко Геннадий Владимирович. Краснодар, 2019. 285 с.
- Ван Геннеп А. Обряды перехода : Систематическое изучение обрядов / пер. Ю. В. Иванова, А. В. Покровская. Москва : Восточная литература, 1999. 198 с.
- Веблен Т. Б. Теория праздного класса / пер. с англ. С. Г. Сорокина. Москва : Прогресс, 1984. 367 с.
- Горлова И. И., Коваленко Т. В., Бычкова О. И. Культурная жизнь российской провинции: состояние, тенденции, противоречия (на примере Краснодарского края) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. С. 23-32. DOI: 10.17223/22220836/30/3
- Завьялова Л. В. Петербургский Английский клуб, 1770-1918 : Очерки истории. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2008. 200 с.
- Каган М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург : Петрополис, 1996. 414 с.
- Коваленко Т. В. Культурная жизнь регионов Юга России: институты, практики и пути формирования единого культурного пространства // Конференция «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» в рамках международного форума - фестиваля народного творчества «Кавказ - единая семья», «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», Форума центров традиционной культуры народов России «Мой Дагестан» : сборник докладов. Дербент : Республиканский Дом народного творчества «Крепость», 2016. С. 66-84.
- Кулинич Н. Г. Роль рабочих клубов в организации досуга горожан советского Дальнего Востока в 1920-1930-е гг. // Основные тенденции государственного и общественного развития России: история и современность. 2017. № 1. С. 46-SS.
- Культурология. XX век : энциклопедия / гл. ред., сост. С. Я. Левит. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. Том 1. 447 с.
- Культурология. XX век : энциклопедия / гл. ред., сост. С. Я. Левит. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. Том 2. 446 с.
- Лебедев Н. К. Завоевание Земли : Великие географические открытия от Одиссея до Лаперуза. Москва : Центрполиграф, 2002. S09 с.
- Петриков К. А. «Императорское общество»: проблема взаимоотношений Екатерины II и Вольного экономического общества в «Трудах вольного экономического общества» // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 47. С. 1S-23. DOI: 10.17223/19988613/47/2
- Смирнова Т. М. становление советских польских клубов и дома просвещения в Петрограде - Ленинграде (1918-1920-е гг.) // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. 2019. № 4 (26). С. 69-87.
- Стрельцов Ю. А. Развитие теоретических основ просветительной деятельности советских клубов : автореф. дис. на соискание учёной степени доктора педагогических наук : 13.00.0S / Стрельцов Юрий Андреевич. Москва, 1989. 44 с.
- Туев В. В. Феномен клуба: историко-педагогический анализ : автореф. дис. на соискание учёной степени доктора педагогических наук : 13.00.0S / Туев Виктор Владимирович. Москва, 1998. S2 с.
- Тургенев А. И. Хроника Русского ; Дневники (182S-1826 гг.) / ред. М. И. Гиллельсон. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 624 с.
- Флиер А. Я. Культурная атрибуция как метод исследования // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 4. С. 139-144.
- Флиер А. Я. Культурогенез. Москва : РИК, 199S. 128 с.
- Шипилов А. В. Предыстория гражданского общества в России // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2013. № 1. С. 170-177.
- Шустер Г. История тайных обществ, союзов и орденов : в 2 книгах / [пер. с нем. О. Волькнштейн]. Москва : Айрис-пресс, 200S. Книга 2. 382 с.
- Яковлева Г. Н. Клубы и культурно-просветительные кружки латышского населения Витебщины в первое десятилетие советской власти // Искусство и культура. 2012. № 1 (S). С. S8-67.
- Ярошенко Н. Н. Основные этапы историко-педагогических исследований социально-культурной деятельности в России конца XIX - начала XXI века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 2 (88). С. 114-127. DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10210
- Longworth P. (1984) Alexis, Tsar of All the Russias. F. Watts : 30S.