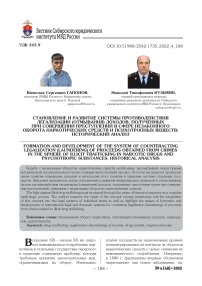Становление и развитие системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: исторический анализ
Автор: Гапонов Вячеслав Сергеевич, Кузьмин Николай Тимофеевич
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
Статья в выпуске: 4 (49), 2022 года.
Бесплатный доступ
Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств необходимо рассматривать через призму исторической последовательности как сложный многоэтапный процесс. В статье исследуется происхождение понятия «отмывание доходов» и интеграция этого понятия в правовые системы отдельных государств. Авторами выделяются этапы становления и развития международно-правовой и отечественных систем противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Незаконный оборот наркотиков, легализация (отмывание) доходов, наркорынок, криптовалюты
Короткий адрес: https://sciup.org/140296549
IDR: 140296549 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Становление и развитие системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: исторический анализ
Всередине XIX – начале XX вв. широкое немедицинское потребление наркотиков в отдельных государствах переросло в серьезную социальную проблему, которая требовала принятия законодательных мер, ограничивающих их оборот. Изначально усилия государств на национальных уровнях концентрировались на контроле за оборотом наркотических средств с целью снижения их немедицинского потребления. Например, в 1880 г. фармацевты впервые обозначили «наркоманию» как новое заболевание, на-
108 ~ № 4 (49) • 2022
звание которого «связали с древнегреческой мифологией (с именем сына речного бога Ке-фиса и речной нимфы Лейриопы)» [1, с. 7].
Этот период можно обозначить как первый этап становления системы контроля над оборотом наркотиков, в течение которого рядом государств (Францией – в 1845 г., США – в 1895 и 1906 гг., Китаем – в 1906 г.) были приняты соответствующие национальные законы.
Второй этап характеризуется появлением первых инструментов международного контроля над оборотом наркотиков. В феврале 1909 г. в г. Шанхае (Китай) была проведена Международная комиссия по опиуму, которая по своему формату являлась международной конференцией. Хотя конференция не предназначалась для принятия обязательных предписаний, тем не менее именно ее проведение способствовало разработке единых позиций относительно вреда от немедицинского потребления наркотиков, механизмах учета их производства и торговли, а также контроля над оборотом наркотиков. Спустя три года делегации 12 государств, ранее входившие в Шанхайскую опиумную комиссию, в том числе Российская Империя, подписали Международную конвенцию об опиуме (23.01.1912, г. Гаага), предмет регулирования которой кроме оборота опиума также охватывал оборот морфия, кокаина и их производных.
В рамках третьего этапа следует рассматривать период формирования и деятельности профильных подразделений Лиги наций, к которым относились Постоянный центральный комитет, созданный в соответствии со второй Международной конвенцией по опиуму 1925 г., и Контрольный орган по наркотическим средствам, учрежденный в соответствии с Конвенцией об ограничении производства и о регламентации распределения наркотических средств 1931 г. Также в это время была принята Конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами 1936 г.
Примерно тогда же появляется термин «отмывание» доходов, хотя его авторство в специальной литературе однозначно не установлено. Так, Е.Н. Кондрат придерживает- ся точки зрения зарубежного исследователя П. Лилея, считавшего родоначальником отмывания преступных доходов преступного лидера Аль Капоне, который стремился придать легальность незаконно полученным доходам от вымогательства, проституции, азартных игр и контрабанды спиртных напитков. «С этой целью использовался бизнес с высоким оборотом наличности – прачечные и автомойки, деньги смешивались с выручкой и вводились в легальный оборот» [5, с. 81]. М.М. Прошунин указывает на существование еще двух версий, по одной из которых изобретателем отмывания считается Сальваторе Лучано по прозвищу «Счастливчик», предложивший в 1923 г. владельцам нелегальных капиталов в США новую услугу – вывоз «грязных» денег в Европу и их инвестирование в акции промышленных предприятий Швейцарии, Германии и Италии. В другой версии к «родоначальникам легализации преступных доходов также относят Мейера Лански (Мейер Сухов-лянский), который за счет игорных заведений, расположенных на Кубе, переводил неправомерно полученные денежные средства из Швейцарии на «остров Свободы», а затем переправлял их во Флориду, что создавало картину возвращения зарубежных инвестиций в Америку на законных основаниях» [9, с. 47]. Полагаем, что термин «отмывание», будучи сленговым выражением преступников, получил повсеместное правовое распространение из-за своеобразной игры слов, которая понятно отражает сущность этого негативного социально-экономического явления на любом языке. Например, в нормативных правовых актах государств Латинской Америки термин «lavado de dinero» (исп. – прим авт.), дословно переводится как «отмывание денег», но понимается гораздо шире, а именно как легализация доходов, полученных преступным путем1.
Между тем результативность антинарко-тической деятельности профильных органов Лиги наций была весьма низкой. На третьем этапе не удалось сформировать целостную систему международных отношений по контролю за оборотом наркотиков и противодействию их незаконному обороту. Соответству- ющие проблемы заняли центральное место в международной повестке только после Второй мировой войны. В этот период, который можно обозначить как четвертый этап, на смену Лиге наций приходит ООН, принимаются основополагающие источники – Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.1 и Конвенция о психотропных веществах 1971 г.2 Кроме того, создается комплекс профильных органов: МККН ООН – независимый квазисудебный орган по контролю за осуществлением международных конвенций ООН о контроле над наркотиками и его специализированные учреждения, Комиссия ООН по наркотическим средствам, включая ее вспомогательные органы, – главная структура в системе ООН, ответственная за разработку и реализацию политики по всем вопросам, связанным с контролем за злоупотреблением наркотиками, а также Управление ООН по наркотикам и преступности.
Отметим, что СССР присоединился ко всем основным многосторонним международным договорам относительно контроля над оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков (далее – НОН). Представители государства принимали активное участие в деятельности профильных органов ООН, хотя до конца 1980-х гг. проблема наркотизации советского общества фактически отсутствовала. Органы советской власти редко обращали внимание на НОН вследствие малозначительности этого негативного социально-экономического явления, поэтому обнаружить достоверные статистические данные о потреблении наркотиков в СССР достаточно сложно. Интерес представляют исследования В.П. Сальникова и Д.П. Иванова, которые на примере г. Ленинграда и области ( в настоящее время г. Санкт-Петербург и Ленинградская область – прим. авт.) указывают на следующие архивные данные: в 1967 г. в Ленинграде были зарегистрированы около 30 преступлений с участием наркоманов, в 1976 г. – 175
преступлений, а в 1986 г. почти 990 преступлений, которые совершили 612 наркозави-симых. Также возросло число лиц, взятых на учет ОВД, как употребляющие наркотические средства. В Ленинграде на декабрь 1974 г. на таком учете в органах милиции состояли 974 лица, потребляющих наркотики, а в январе 1988 г. по учетам проходили 5269 чел. Рост учтенных наркоманов наблюдался и в области. Так, если в январе 1977 г. в территориальных ОВД на учете числилось 188 чел., употребляющих наркотики, то в начале 1988 г. – уже 343 наркомана [10, с. 24-25]. Перечень деяний, за совершение которых наступала уголовная ответственность согласно УК РСФСР3, был достаточно обширен и неоднократно дополнялся новыми нормами:
ст. 224 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств»;
ст. 224.1 «Хищение наркотических средств» (введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.07.1974);
ст. 224.2 «Склонение к потреблению наркотических средств» (введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.07.1974);
ст. 224.3 «Незаконные приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах» (введена Указом Президиума ВС РСФСР от 29.06.1987);
ст. 225 «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию опийного мака и конопли»;
ст. 225.1 «Незаконные посев или выращивание масличного мака и конопли» (введена Указом Президиума ВС РСФСР от 29.06.1987);
ст. 226.1 «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств» (введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.07.1974);
ст. 226.2 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ» (введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.07.1974).
1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. : заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Конвенция о психотропных веществах : заключена в г. Вене 21.02.1971 // СПС «КонсультантПлюс».
3 Уголовный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (ред. от 30.07.1996) // СПС «Гарант».
~ 110 ~ № 4 (49) • 2022
Кроме того, уже в 1973 г. в составе УУР МВД СССР был создан самостоятельный Отдел по борьбе с наркоманией, который в 1989 г. реорганизован в 3-е Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступлений, связанных с иностранными гражданами, подчиненное ГУУР МВД СССР. В 1990 г. за счет штатной численности ГУУР и ГУБХСС МВД СССР было создано Управление по борьбе с распространением наркомании ГУУР МВД СССР. После неоднократных переименований и организационных изменений в 1991 г. это подразделение было выведено из-под юрисдикции ГУУР МВД СССР и образовано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД СССР, которое стало самостоятельной отраслевой службой криминальной милиции [3, с. 5].
Существование теневой экономики в СССР рассматривалось как через призму экономической безопасности, так и в качестве угрозы политической стабильности государства. Исследователи солидарны в том, что теневая экономика как заметное явление советской жизни возникла в конце 1950-х – начале 1960-х гг. после прихода к власти Н.С. Хрущева, который своими решениями уничтожил легальное мелкотоварное производство, при том, что у государства не хватало ресурсов и мощностей на производство товаров народного потребления. Упразднение кооперативов в условиях дефицитной экономики и роста денежных доходов населения, с одной стороны, загнало торговлю и сферу услуг «в тень», а с другой – обеспечило широкие контакты с официальной экономикой как через сбыт товаров и оказание нелегальных услуг населению, так и через всеобщую криминализацию торговли, которая генерировала дефицит, укрывая товарные потоки и перепродавая их со спекулятивной наценкой [7, с. 19-22; 8, с. 204-206]. По мнению Т.И. Щербаковой, «несмотря на все усилия, проблема дефицита так и не была решена. Новые товарные потоки, формируемые государством, через коррумпированную торговлю аккумулировались теневой экономикой, умножая благосостояние подпольных миллионеров. К началу 1980-х гг., по оценке исследователей, теневая экономика представляла собой сложное системное образование, объединяющее преступные группы, дельцов и коррумпированный административный аппарат» [12, с. 53].
Однако в СССР не существовало проблемы легализации доходов как системного негативного социально-экономического явления, относящегося к криминальному сегменту теневой экономики. Многочисленные «фарцовщики», «валютчики», взяточники, «цеховики» и даже высокопоставленные фигуранты печально знаменитого «хлопкового дела» были лишены возможности инвестировать полученные незаконные доходы в какой-либо сектор административно-командной экономики и преимущественно расходовали их для личного обогащения или для увеличения оборотов своей нелегальной деятельности. В позднем СССР уголовное преследование таких лиц активно осуществлялось по целому ряду норм УК РСФСР, устанавливающих ответственность за хозяйственные преступления:
ст. 152 «Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции»;
ст. 152.1 «Приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов»;
ст. 153 «Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество»;
ст. 154 «Спекуляция»;
ст. 155 «Незаконное пользование товарными знаками»;
cт. 156.2 «Получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения»;
ст. 157 «Выпуск в продажу недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции» и проч.
Более того, привлечение к уголовной ответственности за хозяйственные преступления в резонансных случаях сопровождалось дополнительной квалификацией за совершение более тяжких деяний. Например, виновным вменялось хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах (ст. 93.1 УК РСФСР) и нарушение правил о валютных операциях (ст. 88 УК РСФСР). Каждая из этих норм предусматривала применение дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества осужденного как нажитого преступным путем без необходимости доказывания этого факта.
Между тем за пределами СССР уже в 1970-х гг. организованные преступные формирования, осуществляющие НОН, приобрели экономическое влияние и политическое могущество. Среди их лидеров появились мультимиллиардеры, например глава Медельинского наркокартеля Пабло Эскобар, который «понимал необходимость занятия прочного положения в «легальном» обществе» [4, с. 163]. НОН пересекается с легализацией доходов, полученных преступным путем, и в дальнейшем они образуют криминальный симбиоз, вследствие чего возникает насущная потребность в подрыве экономических основ деятельности организованных преступных формирований, их лидеров и других лиц, причастных к НОН [13]. Представляется возможным выделить пятый этап, который был самым плодотворным в истории развития системы противодействия этому негативному социально-экономическому явлению.
В 1988 г. в г. Вена (Австрийская Республика) была принята Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ1, установившая международные правовые принципы выявления, замораживания и конфискации доходов и имущества, полученных в результате НОН. Этот же источник исключает предоставление убежищ участникам НОН с помощью положений о выдаче крупных торговцев наркотиками, взаимной юридической помощи между государствами в проведении расследований, связанных с наркотиками, с передачей материалов судопроизводства для обеспечения уголовного преследования и интересов надлежащего отправления правосудия.
В 1989 г. в г. Париже (Французская Республика) была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем государств этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ являются 40 рекомендаций в сфере противодействия отмыванию денег, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет (1990 г., 1996 г., 2001 г. и т.д.)2. Для реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне создаются так называемые подразделения финансовой разведки, отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков средств, добытых незаконным путем. В завершение пятого этапа в 2000 г. была принята Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности3, в которой содержался целый ряд положений применительно к противодействию легализации (отмыванию) доходов транснациональных организованных преступных групп от НОН.
В России на рубеже 1990-х гг. происходила смена экономической и политической формаций, что сопровождалось угрожающей наркотизацией общества. У отечественных организованных преступных формирований появились значительные доходы от НОН, владению которыми было необходимо придать правомерный вид. Однако правоохранительные органы оказались не готовы к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от НОН, а в отсутствие необходимой нормативной базы длительное время вообще были лишены возможности организовать эффективную деятельность в этом направлении. Так, ст. 174 УК РФ, установившая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, начала применяться только с 1997 г., т.е. с момента вступления в силу УК РФ. В.В. Красильников, автор рекомендаций УБНОН МВД по Республике Татарстан, от- мечает, что в 1998 г. за совершение преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 174 УК РФ, были осуждены всего 56 человек, и «практически никто не занимается разработкой вопроса об особенностях легализации преступных доходов в отдельных отраслях преступного бизнеса – организации азартных игр, торговли наркотическими средствами и оружием, проституции и т.д.» [6, с. 4-5].
Полагаем, что в России пятый этап развития системы противодействия легализации доходов, полученных от НОН, продолжался в том числе за границами 2000-х гг.: от фактической имплементации рекомендаций ФАТФ до появления качественной и устойчивой практики уголовного преследования за совершение соответствующих преступлений.
В 2004 г. для повышения эффективности взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции ближайших государств в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма по инициативе России и при поддержке ФАТФ была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Впоследствии Соглашение об этом региональном объединении было ратифицировано федеральным законом1.
После этого благодаря усилиям нового субъекта правоохранительной деятельности – ФСКН России, которая была создана в 2003 г.2, появились первые значимые результаты уголовного преследования за легализацию (отмывание) доходов, полученных от НОН. Оперативные и следственные подразделения ФСКН России достаточно быстро «наработали практику» и перешли от доказывания отдельных эпизодов легализации к выявлению и пресечению крупных фактов и схем отмывания преступных доходов. Напри- мер, в 2007 г. органами наркоконтроля были выявлены около 1400 преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем3.
Шестой, новейший этап развития системы противодействия легализации (отмыванию) преступных наркодоходов, безусловно, связан с информационно-телекоммуникационным прогрессом.
После 2010 г. ускоряется процесс перемещения незаконного сбыта наркотиков в Интернет. Участники НОН непрерывно адаптируют ИТКТ для совершения преступлений. Сначала разовые дозы распространяются посредством «закладок» с обменом информацией в ICQ – системе мгновенного обмена сообщениями, а расчеты за наркотики поступают на счета мобильных телефонов или банковские карты, оформленные на так называемых дропов – подставных лиц, осуществляющих последующее обналичивание денег. Затем появляются электронные платежные системы («WebMoney», «Яндекс. Деньги», «Qiwi-кошелек» и др.), электронные кошельки без идентификации («Payeer», «Advcash» и др), использование которых многократно упрощает сокрытие преступного происхождения доходов. Деятельность организованных преступных формирований концентрируется на тематических интернет-пло-щадках, которые быстро разрастаются до размеров нелегальных маркетплейсов («Road Silk», «RAMP», «Hydra» и др.), предлагающих массу «продуктов» для осуществления НОН (комплексный Web-дизайн интернет-магазинов, трудоустройство, sim-карты, банковские карты, комплекты поддельных и настоящих документов и проч.). Преступники осознают перспективы рынка криптовалют («Bitcoin», «Litecoin», «Ethereum» и др.) для легализации доходов, полученных от НОН, и становятся ведущими игроками на этом рынке.
Криминал вновь опережает правоохранительные органы, которые не успевают своевременно разработать алгоритмы выявления и документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов, полученных при совершении преступлений в сфере НОН с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, совместная работа ФСКН России и Росфинмониторинга по выявлению преступлений, связанных с НОН, через анализ электронных платежей и разработке системы анализа финансовых операций началась только в 2014 г. По результатам совместного анализа были установлены очаги финансовой активности легализуемых наркодоходов, маршруты финансовых потоков от НОН внутри страны, которые ориентированы на каналы наркопоставок, направления движения финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков за пределы Российской Федерации, изменения способов сбыта наркотиков на «бесконтактные», при которых координация деятельности участников наркогруппировок, в том числе связанной с легализацией преступных доходов, а также с управлением финансовых потоков от НОН, осуществляется дистанционно «диспетчерами» посредством интернет-техно-логий; основные регионы аккумуляции и вывода денежных средств в наличный оборот1.
Тем не менее органам наркоконтроля удавалось сохранять достигнутые результаты в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных от НОН. В частности, в 2014 г. ФСКН России были расследованы 1392 уголовных дела этой категории, а совокупный размер «замороженных» финансов составил более 3 млрд 137 млн рублей2. К сожалению, после упразднения ФСКН России3 наступательный потенциал правоохранительных органов по выявлению, документирова- нию и расследованию таких преступлений резко сократился. Например, согласно сведениям МВД России, в 2016 г. установленный размер легализованных средств составил 1 млрд 517 млн 245 тыс. 566 рублей, а в 2017 г. – только 228 млн 368 тыс. рублей (-85%). Если сравнивать с годовой выручкой наркобаронов или со стоимостью изъятых в 2017 г. различных видов наркотиков, которая в перерасчете по ценам «черного рынка» составила более 12 млрд рублей, то применительно к этой цифре установленная сумма легализации составила всего 2,2% [3, с. 17-18].
В настоящее время основным участником правоохранительного блока отечественной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате НОН, является ГУНК МВД России4. Поэтому именно ГУНК МВД России принимало меры по устранению такого правового пробела, как отсутствие федерального законодательства, регулирующего выпуск и оборот виртуальных активов на территории Российской Федерации5, и участвовало в его совершенствовании. А.И. Храпов подчеркивает, что ГУНК МВД России принадлежит авторство предложений по актуализации судебной практики в этой сфере: «В итоге с февраля 2019 года в предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, включены денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, приобретенных в результате преступной деятельности» [11, с. 17].
Таким образом, в хронологии становления и развития системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных при совершении преступлений в сфере НОН, условно возможно выделить шесть этапов. Критерии такой классификации являются смешанными. Первые четы- ре этапа выделяются по разному предмету правового регулирования (контроль над оборотом наркотиков и борьба с НОН; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), т.к. до 1970-х гг. эти два негативных социальных явления развивались параллельно либо имели мало точек соприкосновения. Полагаем, что целесообразность выделения пятого этапа обоснована криминальным симбиозом НОН и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, вследствие чего образуется новый предмет правового регулирования – отношения по противодействию легализации (отмыванию) наркодоходов. Критерием для выделения шестого этапа выступает информационно-технологический прогресс и использование информационно-телекоммуникационных технологий для легализации (отмывания) доходов, полученных при совершении преступлений в сфере НОН.
Список литературы Становление и развитие системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: исторический анализ
- Авакян, Р.О. Наркомания: вчера, сегодня, завтра. Часть I. Историко-правовой анализ проблем антинаркотизма / Р.О. Авакян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2016. – N 4 (27).
- Гаврюшкин, Ю.Б. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / Ю.Б. Гаврюшкин, В.Г. Дикарев // Научный компонент. – 2019. – N. 2(2).
- Данилов, В.В. История и нормативно-правовое регулирование оборота наркотических средств и наркопреступности в СССР и России в XX веке / В.В. Данилов // Мир науки и образования. – 2015. – N 3(3).
- Иванов, Н.С. Пабло Эскобар: портрет колумбийского наркобарона / Н.С Иванов // Латиноамериканский исторический альманах. – 2016. – N 16.
- Кондрат, Е.Н. Влияние легализации доходов на экономическую безопасность государства / Е.Н. Кондрат // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – N 9.
- Красильников, В.В. Некоторые рекомендации по борьбе с экономической основой наркобизнеса / В.В. Красильников. – Казань: УБНОН МВД по РТ. – 2000.
- Маметьев, И.В. Предпосылки и формирование теневой экономики 1920-е – 1960-е в СССР / И.В. Маметьев // Международный научный журнал Интернаука. – 2017. – Т. 1. – N 17 (39).
- Мухаметова, В.Р. Теневая экономика СССР / В.Р. Мухаметова // Социально-экономические и гуманитарные аспекты развития современного общества: материалы Всероссийской (заочной) научно-практической конференции. – Уфа, 2016.
- Прошунин, М.М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М.М. Прошунин // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». – 2008. – N 3.
- Сальников, В.П. Организационно-правовые меры борьбы с наркотизацией населения Ленинграда и области в начале 1960-х-1990-х гг.: опыт и проблемы / В.П. Сальников, Д.П. Иванов // Историческая наука: история и современность. – 2021. – N 3.
- Храпов, А.И. Основные аспекты противодействия наркоугрозе на современном этапе / А.И. Храпов // Финансовая безопасность. – 2020. – N 28.
- Щербакова, Т.И. Экономическая модель постсталинского СССР и ее результаты / Т.И. Щербакова // Экономическая теория. – 2022. – Т. 18. – N 1.
- Шашин, Д.Г Специальный повод для возбуждения уголовного дела: проблемы правоприменения / Д.Г. Шашин // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2014. – N 1 (68).