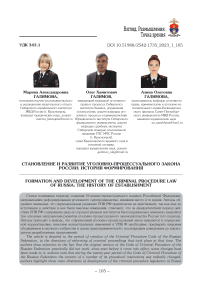Становление и развитие уголовно-процессуального закона России: история формирования
Автор: Галимова Марина Александровна, Галимов Олег Хамитович, Галимова Алина Олеговна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 1 (50), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена периоду создания Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, направлениям реформирования уголовного судопроизводства, имевшим место в то время. Авторы обращают внимание, что первоначальная редакция УПК РФ практически не действовала, так как еще до вступления в действие в нее были внесены изменения; отмечают, что за двадцатилетний период действия УПК РФ содержание ряда его процессуальных институтов было кардинально изменено; выделяют три основных направления развития уголовно-процессуального законодательства России того периода. Авторы приходят к выводу, что современный уголовно-процессуальный закон нуждается в определенной корректировке; внесение концептуальных изменений в УПК Ф необходимо предварять широким обсуждением в научном сообществе и среди правоприменителей с последующим доведением до законодателя разработанных предложений.
Уголовно-процессуальный закон, проект уголовно-процессуального кодекса, реформа уголовного судопроизводства, редакция упк рф, межведомственная рабочая группа
Короткий адрес: https://sciup.org/140297800
IDR: 140297800 | УДК: 343.1 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_1_105
Текст научной статьи Становление и развитие уголовно-процессуального закона России: история формирования
В декабре 2022 года российский уголовно-процессуальный закон достиг возраста «полного гражданского совершеннолетия» – именно 21 год назад был принят Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ). За исключением отдельных положений он был введен в действие с 1 июля 2002 г.1 Однако первоначальная редакция УПК РФ практически не действовала, так как еще до вступления в действие в нее были внесены изменения, вступающие в силу со дня их официального опубликования2.
В течение срока действия УПК РФ в него были внесены изменения и дополнения, которые порой кардинально меняли его содержание. Только федеральных законов, изменяющих текст кодекса (по состоянию на 31 декабря 2022 г., самые свежие новации – четыре федеральных закона от 29 декабря 2022 г.), было принято 309. Кроме того, решений (постановлений) Конституционного Суда РФ, корректирующих уголовно-процессуальный закон – 37. Иными словами, уголовно-процессуальное законодательство сегодня является одним из наиболее динамично меняющихся российских законов. Абсолютным лидером в этом направлении, конечно же, является Кодекс Российской Федерации об административных правона- рушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ), который содержит нормы как материального, так и процессуального права, – более 800 федеральных законов было принято за тот же период действия. Но такая активность определяется спецификой регулируемых отношений.
Не слишком отстает в динамике от УПК РФ и уголовный закон – приняты 317 нормативных актов (306 федеральных законов и 11 постановлений Конституционного Суда РФ), актуализирующих его текст. Но мы помним, что УК РФ немного «старше» (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ). Кроме того, в определенных случаях изменения, вносимые в уголовный и уголовно-процессуальный законы, взаимосвязаны. Так, криминализация деяния (включение его в число уголовно наказуемых и установление соответствующей статьи в УК РФ) в обязательном порядке влечет корректировку статьи 151 и (или) статьи 150 УПК РФ. За рассматриваемый период были внесены около 100 таких изменений.
Среди процессуалистов поддерживается точка зрения о том, что изменения, вносимые в уголовно-процессуальный закон, часто носят фрагментарный и бессистемный характер, подчас лишены логичности и последовательности (А.М. Баранов, А.Р. Белкин, Б.Я. Гаврилов, Л.В. Головко и др.). Бессистемное внесение поправок в УПК РФ искажает его внутреннюю логику, смысл норм и институтов, иногда прямо отражает узковедомственные интересы, а в целом подрывает стабильность законодательства и уважительное отношение к закону; имеет место «гиперактивное законотворчество со всеми отсюда вытекающими отрицательными последствиями» [1, с. 67-71]. Вносимые изменения разбалансировали уголовно-процессуальное законодательство, создали острые проблемы в правоприменении (Л.Н. Масленникова) [5, с. 335]. С этим трудно не согласиться. За период действия УПК РФ ежегодно принимались от 5 (2005 г.) до 35 (2014 г.) нормативных актов, изменяющих его содержание. Федеральный закон от 29 мая 2002 г. N 58-ФЗ (содержит 76 пунктов) внес изменения в УПК РФ еще до вступления его в действие.
Интересно отметить, что за более чем 40-летний период действия УПК РСФСР были приняты 107 документов (81 законодательный акт и 26 решений Конституционного Суда РФ), корректирующих уголовно-процессуальный закон. При этом лишь треть изменяющих документов (32) были приняты в течение 30 лет его действия (до 1990 г.), остальные (75) – в период с 1990 по 2002 годы.
В связи с этим представляется интересным проследить генезис уголовно-процессуального закона, определить ключевые и поворотные моменты его становления. Безусловно, эта задача имеет долгосрочную перспективу. И начать, как представляется логичным, следует с исторического аспекта.
Изменения, произошедшие в государственной, общественной и экономической жизни в конце прошлого века в России, послужили толчком для кардинального реформирования уголовной и уголовно-процессуальной политики в целях обеспечения баланса законных интересов личности, общества и государства.
Стратегическое направление развития уголовного судопроизводства было определено Концепцией судебной реформы, принятой постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. N 1801-1. В числе основных задач Концепции определе- ны в том числе осуществление правосудия и уголовного преследования в соответствии с собственным материальным и процессуальным правом, защита и неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве, закрепление в нормах уголовного процесса демократических принципов организации и деятельности правоохранительных органов, положений, отвечающих рекомендациям юридической науки.
Применительно к уголовному процессу можно выделить три основных вектора развития реформ закона.
Первый – «доконституционный». В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века под воздействием норм международного права и стремления законодателя приблизиться к демократическим стандартам уголовного судопроизводства были кардинально реформированы ключевые процессуальные институты, в частности институт защиты. По уголовно-процессуальному законодательству того периода вплоть до 1989 г. защитник допускался к участию в деле только с момента ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Закон РФ от 23 мая 1992 г. N 2825-1 допустил защитника к подозреваемому с момента задержания (либо применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу – с момента объявления соответствующего постановления), к обвиняемому – с момента предъявления обвинения. Более того, этим же законом были заложены основы судебного контроля досудебного производства: несмотря на то что заключение под стражу по-прежнему осуществлялось с согласия (санкции) прокурора, было установлено право лица, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, обжаловать в суд законность и обоснованность такого решения.
Законом РФ от 16 июля 1993 г. N 54511 в России был возрожден институт присяжных заседателей. Суд присяжных в качестве правового эксперимента действовал с 1 ноября 1993 г. в Ставропольском крае, Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской областях, с 1 января 1994 г. – в Алтайском и Краснодарском краях, Ульяновской и Ростовской областях1.
После принятия Конституции РФ и существенного обновления законодательства (Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», Уголовный кодекс РФ и др.) реформирование уголовно-процессуальных институтов продолжилось достаточно активно. Так, в связи с появлением в уголовном законе новых оснований освобождения от уголовной ответственности в УПК РСФСР были закреплены новые основания прекращения уголовного дела – в связи с изменением обстановки, в связи с примирением сторон и в связи с деятельным раскаянием.
Как указывалось выше, в УПК РСФСР в целом за 1990-е гг. (10 лет) было внесено в два раза больше изменений, чем за предшествующие 30 лет. Такая статистика позволяет утверждать, что к 2000 г. в России действовал не советский, а постсоветский вариант уголовно-процессуального закона.
Второй вектор – «конституционный». Принятие Конституции РФ 1993 г. обусловило активную деятельность Конституционного Суда РФ относительно детальной ревизии действующего уголовно-процессуального закона на предмет конституционности его положений. За период с 1995 г. по 2000 г. были приняты свыше 20 постановлений, признавших его нормы неконституционными. Так, были реализованы конституционные основы принципа свободы обжалования – заинтересованные участники уголовного процесса получили право судебного обжалования не только решения о заключении под стражу, но также ряд других решений по досудебному производству – об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, о продлении срока предварительного расследования, о производстве обыска, о наложении ареста на имущество (постановле- ния Конституционного Суда РФ от 13 ноября 1995 г. N13-П, от 29 апреля 1998 г. N13-П, от 23 марта 1999 г. N 5-П).
Постановлением Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. N 19-П «По делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края» была признана неконституционной ст. 418 УПК РСФСР, наделяющая судью полномочиями возбуждать уголовное дело; излагать в постановлении о возбуждении уголовного дела формулировку обвинения. Указанная статья и глава 34 УПК РСФСР в целом являлись правовой основой института досудебной подготовки материалов по уголовному делу, представляющей собой упрощенную форму производства в отношении преступлений, не представляющих большой общественной опасности и совершенных, как правило, в условиях очевидности, которая достаточно эффективно применялась на практике. Несмотря на разъяснения Конституционного Суда РФ о том, что признание ст. 418 УПК РСФСР неконституционной не должно препятствовать применению такого института в целом исходя из того, что решение о возбуждении уголовного дела и формулировка выдвигаемого против лица обвинения содержится в утвержденном начальником органа дознания и санкционированном прокурором протоколе (определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 1997 г. N 88-О), рассматриваемый институт по мотивам его реакционности не нашел применения в УПК РФ. Законодатель вернулся к аналогичному институту (в видоизмененной форме) спустя почти полтора десятка лет2.
Было ограничено действие института возвращения уголовного дела на дополнительное расследование – постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. N 4-П определен запрет судам в ак- тивной форме (по собственной инициативе) возвращать уголовные дела на дополнительное расследование на основании неполноты дознания и предварительного следствия или в связи с необходимостью предъявления более тяжкого обвинения (либо существенно отличающегося от первоначального).
В научной литературе, по меткому выражению В.П. Божьева, произведенные решениями Конституционного Суда РФ преобразования отечественного уголовного процесса того времени назывались «тихой революцией» [2, с. 10].
Здесь интересно отметить, что принятая в 1993 г. Конституция РФ является одной из самых процессуальных конституций в мире. По мнению Н.Г. Стойко, «наше уголовно-процессуальное право может быть названо прикладным конституционным с неменьшим основанием, нежели, например, германское» [12, с. 415-417]. С момента принятия Конституция РФ напрямую регулировала (и регулирует) уголовно-процессуальные отношения. Такой отраслевой характер ее норм в определенной мере обусловлен особенностями переходного периода нашего государства в момент принятия Конституции РФ: «конституционный уровень регулирования требует большей степени обобщенности, приближенности к общеправовым идеям, конкретный механизм воплощения в жизнь которых должен находиться на уровне уголовно-процессуального закона» [12, с. 415-420].
Вопросы непосредственного применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия были разъяснены на уровне Пленума Верховного Суда РФ (постановление от 31 октября 1995 г. N 8). В частности, внимание судов обращено на то, что при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. К ним, в частности, Пленум отнес случаи:
– когда закрепленные нормой Конституции РФ положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина;
– когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции РФ, противоречит ей;
– когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с ее соответствующими положениями.
По истечении времени отдельные разъяснения указанного постановления Пленума ВС РФ утратили актуальность и были отменены (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013 г. N 9). Но и с принятием УПК РФ Конституция РФ не утратила процессуального значения, отдельные ее нормы по-прежнему непосредственно регламентируют уголовно-процессуальные отношения – например, статьи 19, 49, 51 и другие Конституции РФ.
Третий вектор реформирования уголовно-процессуального законодательства – «кодификационный». Активно велась работа по подготовке нового уголовно-процессуального закона. На правотворческой «арене» обозначились две основные силы, которые предлагали, соответственно, два варианта развития российского уголовного процесса.
Сторонники первого варианта (условно назовем их «западниками») предлагали практически полную замену традиционной отечественной модели на состязательное уголовное судопроизводство в формате англо-американских образцов.
Сторонники второго варианта (условно назовем их «отечественниками») рассматривали в качестве пути реформирования модернизацию советского уголовного процесса для приведения его в соответствие с современными требованиями, но с сохранением всей континентальной «смешанной» инфраструктуры [8].
Сторонники второго направления, в свою очередь, разделялись на тех, кто считал, что для модернизации требуется новый УПК, и тех, кто полагал допустимым совершенствование УПК 1960 г., который адекватен с тех- нической точки зрения и в случае внесения в него изменений, соответствующих новым постсоветским реалиям, будет способен регулировать обновленные правоотношения. В качестве примера, в частности, приводился УПК Германии 1877 г., действующий, невзирая на все произошедшие в этой стране смены политических режимов1.
Исходя из дуализма подходов к реформированию были созданы две рабочие группы по разработке проекта УПК РФ. Первая (в составе преимущественно «западников») действовала при Государственно-правовом управлении Администрации Президента РФ, вторая (состоящая в основном из «отечествен-ников») – при Министерстве юстиции РФ. Результатом их правотворческой деятельности стали два альтернативных проекта УПК РФ: проект УПК (только общей части) ГПУ Президента РФ выражал более радикальные идеи перехода к почти «чистой» состязательно-сти2, проект УПК Минюста России (полный) являлся более умеренным и в значительной степени отражал историческое наследие отечественного уголовного судопроизводства3.
Наибольшую поддержку и одобрение получил проект УПК Минюста, который в 1995 г. принят к рассмотрению Государственной Думой, после чего работу над ним продолжила уже единая рабочая группа при Комитете по законодательству Государственной Думы РФ.
Подготовленный проект УПК, выдержанный в духе преемственности и умеренной модернизации УПК РСФСР, был принят Государственной Думой в первом чтении 6 июня 1997 г. К 1 июля 1999 г. «его подготовка к рассмотрению во втором чтении была завершена, и только принципиальные разногласия между ведомствами по вопросу подследственности уголовных дел помешали его принятию» [10, с. 5].
На дальнейшую судьбу уголовно-процессуального закона оказало влияние изменение политической расстановки сил в России. В 1999 г. главой рабочей группы по подготовке проекта УПК РФ становится Е.Б. Мизулина. При подготовке проекта УПК РФ ко второму чтению, учитывая, что в рабочую группу входили и «отечественники», и «западники», среди авторов обозначились принципиальные идеологические расхождения по вопросу развития российского уголовного процесса. В связи с этим по инициативе Е.Б. Мизулиной в ноябре 2000 г. была создана «малая рабочая группа», куда вошли только «западники» – сторонники перехода к полностью состязательному процессу. Одновременно Указом Президента РФ от 28 ноября 2000 г. была создана рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства о судебной системе во главе с Д.Н. Козаком. Обе рабочие группы (парламентская и президентская) работали в тесной координации и не имели между собой принципиальных разногласий [4, с. 3-5].
Следует акцентировать внимание, что резкое изменение курса подготовки проекта УПК РФ совпало с возрастанием интереса к проекту со стороны американских дипломатических и экспертных кругов, работавших в непосредственном контакте с малой группой Е.Б. Мизулиной. Так, по итогам проведенного при поддержке Американской ассоциации юристов круглого стола в сентябре 2000 г. был «выработан ряд рекомендаций, адресованных Комитету по законодательству, значительно облегчивших впоследствии организацию работы над новым УПК» [10, с. 7]. В качестве примера реализации таких рекомендаций можно привести норму, явно заимствованную из процессуального законодательства США (ч. 6 ст. 234 УПК РФ в редакции 2001 г.), о невозможности удовлетворения заявленного стороной защиты в ходе судебного разбирательства ходатайства о вызове следователя для установления алиби подсудимого, если данное ходатайство заяв- лялось на предварительном следствии и было отклонено. Однако эта норма была исключена из уголовно-процессуального закона еще до его вступления в действие (Федеральный закон от 29 мая 2002 N58-ФЗ).
Как отмечает Л.В. Головко, окончательный вариант проекта УПК являлся проводником уже совершенно иной уголовнопроцессуальной идеологии, ориентированной не столько на континентальные, сколько на англосаксонские ценности. Он отражал очевидные попытки впервые в истории создать в России полностью состязательный уголовный процесс, что, в частности, выразилось в отказе от принципа материальной истины, провозглашении состязательным не только судебного разбирательства, но и предварительного расследования, причислении дознавателя, следователя, прокурора к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения и многих других положениях [4, с. 7].
С учетом всех отмеченных факторов после создания рабочих групп Е.Б. Мизулиной и Д.Н. Козака дальнейшее продвижение кардинально измененного проекта УПК проходило практически молниеносно. Уже 22 ноября 2001 г. он был принят Государственной Думой в третьем чтении, 5 декабря 2001 г. одобрен Советом Федерации, а 18 декабря 2001 г. подписан Президентом РФ; 1 июля 2002 г. УПК РФ вступил в силу.
По мнению исследователей, «Уголовно-процессуальный кодекс в основном соответствует европейским стандартам. Вместе с тем ни одно государство в Европе не имеет уголовно-процессуального законодательства, абсолютно отвечающего европейским стандартам. Возьмите любую страну: Францию, Германию, Италию и т.д.» [9, с. 58].
Как точно отметил В.В. Николюк, хвалить новый Уголовно-процессуальный кодекс не за что, а ругать бессмысленно!
По справедливому утверждению ученых, с принятием УПК РФ реформа уголовного судопроизводства не была завершена, она перешла на стадию реализации предписаний уголовно-процессуального закона. При этом очевидно, что «если сам процесс принятия нового УПК растянулся на целое десятилетие, то еще более длительным будет процесс переосмысления правовых ценностей, изменение отношения к суду, к иным участникам уголовного процесса, по которому предстоит пройти гражданскому обществу» [11, с. 16].
После принятия УПК РФ и введения его в действие в рамках проекта «Мониторинг введения в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» была создана Межведомственной группа. Организаторами проекта являлись Комитет по законодательству Государственной Думы Федерального собрания РФ и Администрация Президента РФ. Руководителем проекта и Межведомственной группы вновь стала Е.Б. Мизулина. Целью проекта являлось обеспечение исполнения Федерального закона «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ»; основными задачами: создание оптимальных условий для введения в действие УПК РФ, своевременное выявление и предотвращение нарушений федерального закона о введении в действие УПК РФ, выработка практических рекомендаций для последующего применения УПК РФ, разъяснение положений нового УПК РФ.
Не обошла вниманием Межведомственная группа по мониторингу УПК РФ и Сибирский регион – осенью 2002 г. на базе Сибирского юридического института МВД России в рамках научно-практической конференции состоялась встреча членов Межведомственной группы с представителями следственных и судебных органов со всего региона (Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва). Структурно конференция проходила в два этапа – первый, где члены Межведомственной группы разъясняли правоприменителю основные достоинства нового УПК РФ, второй – вопросы Межведомственной группе со стороны представителей следственных и судебных органов.
В рамках первого этапа Е.Б. Мизулиной были отмечены достоинства УПК РФ, в том числе:
– из задач уголовного судопроизводства исключена борьба с преступностью, теперь к задачам отнесена только защита прав;
– с принятием УПК РФ должно вырасти число оправдательных приговоров;
– суд перестал играть активную роль, судья осваивает роль посредника между сторонами;
– в России повсеместно будут действовать суды с участием присяжных заседателей;
– возбуждение уголовного дела с санкции прокурора уменьшит число «заказных дел»;
– наличие установленных бланков процессуальных документов и др.
В рамках этапа «вопрос – ответ» наибольший интерес вызвала проблема фактической реализации на практике введенного института возбуждения уголовного дела (с согласия прокурора), особенно в труднодоступных местах региона, где не всегда (на тот момент) сотрудникам следствия и дознания не только лично к прокурору прийти нет возможности, но даже отсутствует телефонная связь. Как говорится: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Реалии российской действительности, в том числе географические, не были учтены при введении новых демократических институтов. Ответ на этот самый животрепещущий вопрос поступил в интересной форме: «Пройдет полгода и правоприменитель найдет пути решения этой проблемы».
Не давая критической оценки вышеперечисленным «достоинствам» УПК РФ, авторы настоящей статьи обращают внимание на два момента.
Во-первых, исключение из числа задач уголовного судопроизводства борьбы с преступностью. Следует согласиться с Н.А. Коло-коловым, считающим такое достижение весьма сомнительным: «Как, например, из числа задач уголовного судопроизводства можно исключить борьбу с преступностью, свести деятельность системы правоохраны только к защите неких прав. Преступность – негативное социальное явление, которому противостоят все силы общества, государство, в том числе его правоохранительные и судебные органы, которые в процессе функционирования как раз и призваны защитить интересы общества в целом, конкретных участников процесса в частности» [6, с. 1-5; 7, с. 27-38].
Второй касается возбуждения уголовного дела с санкции прокурора. Действие в течение пяти лет данного положения оказало негативное влияние на деятельность следователя, дознавателя по своевременному возбуждению уголовного дела и ограничивало возможности по собиранию доказательств в целях раскрытия преступления по горячим следам [3]. Федеральным закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ в числе других изменений были исключены полномочия прокурора по согласованию постановления должностного лица органа предварительного расследования или органа дознания о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы: стратегическое направление развития российского уголовного судопроизводства было определено Концепцией судебной реформы. Применительно к уголовному процессу реформы осуществлялись в трех плоскостях: доконституционной, конституционной и кодификационной. При подготовке проекта УПК РФ определились два варианта развития отечественного уголовного судопроизводства со своими сторонниками и противниками. Первый вариант предусматривал кардинальное изменение российской модели уголовного процесса и переход к модели состязательной. Второй вариант основывался на историческом процессуальном наследии, предусматривал сохранение традиционной для России смешанной формы процесса и характерной для нее инфраструктуры. В силу причин как объективного, так и субъективного характера законодательное закрепление получил проект УПК РФ, предусматривающий кардинальную смены идеологии уголовного судопроизводства. Однако многие рецепиированные институты нового уголовно-процессуального закона оказались нежизнеспособны в условиях и реалиях России; отдельные действующие положения УПК РФ до настоящего времени остаются дискуссионными, вызывают проблемы в ходе их применения и нуждаются в доработке.
Список литературы Становление и развитие уголовно-процессуального закона России: история формирования
- Белоносов, В.О. Об уголовно-процессуальном законотворчестве в современных условиях / В.О. Белоносов // Юридический вестник Самарского университета. - 2020. - Т. 6. - N 4. -С. 67-71.
- Божьев, В.П. «Тихая революция» Конституционного Суда в уголовном процессе Российской Федерации / В.П. Божьев // Российская юстиция. - 2000. - N 10. - С. 9-11.
- Гаврилов, Б.Я. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: оценка эффективности и меры по его совершенствованию / Б.Я. Гаврилов // Пенитенциарная наука. - 2021. - Т. 15. - N 4(56). - С. 753-765.
- Головко, Л.В. УПК Российской Федерации 2001 года как кодификация: «эффект криста-лизации» или «эффект размывания» / Л.В. Головко // Законы России: опыт, анализ, практика. -2021. - N 6. -С. 3-5.
- Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2022.
- Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальный закон: феномен, который каждый толкует по-своему / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. - 2021. - N 3. - С. 27-38.
- Колоколов, Н.А. УПК РФ - плохо сбалансированная система в чужеродной среде / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. - 2007. - N 1. - С. 1-5.
- Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - М., 2017.
- Лаптев, П.А. УПК РФ с точки зрения европейских стандартов. Из выступления на парламентских слушаниях 5 декабря 2006 г. / П.А. Лаптев // Уроки реформы уголовного правосудия в России (по материалам работы Межведомственной группы по мониторингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в действие): сборник статей и материалов / отв. ред. А.Е. Лебедев, Е.Б. Мизулина. - М., 2007. - С. 58-61.
- Мизулина, Е.Б. Как создавался УПК / Е.Б. Мизулина // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / отв. ред. П.А. Лупинская, Г.В. Дашков. - М., 2002. - С. 4-8.
- Плигин, В.Н. Вступительная статья / В.Н. Плигин // Уроки реформы уголовного правосудия в России (по материалам работы Межведомственной группы по мониторингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в действие): сборник статей и материалов / отв. ред. Е.Б. Мизулина, В.Н. Плигин. - М., 2006.
- Стойко, Н.Г. Конституции и Европейская конвенция по правам человека как источники национального уголовно-процессуального права стран Европейского союза и России / Н.Г. Стойко // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные и социальные науки. - 2019. - Т. 12. - N 3. - С. 410-437.