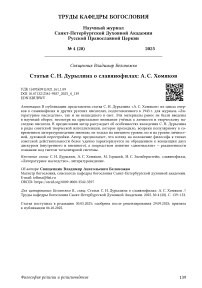Статьи С. Н. Дурылина о славянофилах: А. С. Хомяков
Автор: Священник Владимир Анатольевич Белоножко
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 4 (28), 2025 года.
Бесплатный доступ
В публикации представлена статья С. Н. Дурылина «А. С. Хомяков» из цикла очерков о славянофилах и других русских писателях, подготовленного к 1943 г. для журнала «Литературное наследство», так и не вышедшего в свет. Эти материалы ранее не были введены в научный оборот, несмотря на пристальное внимание учёных к личности и творческому наследию писателя. В предисловии автор рассуждает об особенностях вхождения С. Н. Дурылина в ряды советской творческой интеллигенции, которое проходило, вопреки популярному в современном литературоведении мнению, не только на внешнем уровне, но и на уровне личностной, духовной перестройки. Автор предполагает, что взгляд на положение философа в тисках советской действительности более удачно характеризуется не обращением к концепции двух дискурсов (внутреннего и внешнего), а посредством понятия «двоемыслие» — раздвоенности сознания под гнетом тоталитарной системы.
С. Н. Дурылин, А. С. Хомяков, М. Горький, И. С. Зильберштейн, славянофилы, «Литературное наследство», литературоведение
Короткий адрес: https://sciup.org/140313012
IDR: 140313012 | УДК: 1(470)(091):821.161.1.09 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_4_139
Текст научной статьи Статьи С. Н. Дурылина о славянофилах: А. С. Хомяков
В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) хранится обширный фонд С. Н. Дурылина (ф. 2980), насчитывающий более трех тысяч единиц учета, который, несмотря на пристальное внимание ученых к личности и творческому наследию писателя, до сих пор полностью не изучен, и многие интересные и важные документы не введены в научный оборот. Среди них — цикл статей о славянофилах, работа, предпринятая Дурылиным для ведущего советского академического литературоведческого журнала «Литературное наследство».
С основателем и редактором этого журнала И. С. Зильберштейном (1905– 1988) Дурылина связывали искренние чувства: «я всем сердцем Вас полюбил»1, — писал ему в конце 1932 г. Сергей Николаевич. Связано это с тем, что философу, находившемуся во время второй ссылки (Томск, Киржач) в нелегком положении, связанном с тяготившим его выходом за пределы культурной среды и вынужденной изоляцией, была как никогда необходима поддержка. Религиозная тема — главный нерв творчества Дурылина — была закрыта, оставалась русская культура, посредством раскрытия оснований которой писатель мог говорить о том же, причем, во-первых, обеспечив себе относительную безопасность, во-вторых, продолжая говорить о том, что действительно важно, языком, соответствующим законам новой действительности. Проводником Дурылина в это зазеркалье стал Зильберштейн. С. И. Панов пишет о сотрудничестве философа с «Литературным наследством» как о начале его «полноценной социализации в рядах советской творческой интеллигенции»2 (можно сказать, «ассимиляции»), к которой он всеми силами стремился причислиться, доказав свою лояльность новому режиму, примкнув штык патриотической пропаганды к своим новым литературным трудам.
Именно в этот период Зильберштейн оказал Дурылину существенную поддержку, помогая в проведении целого научного исследования, посвященного Гете. Оно выросло из статьи «Тютчев и Гёте»3, которую редакция журнала «Звенья» отказалась публиковать из-за «совершенно точного и строгого порядка», заведенного в журнале, не позволявшего статьи присылать с задержкой, о чем В. Д. Бонч-Бруевич, не скрывая раздражения, уведомил Дурылина в письме 1933 г.4 Результатом сотрудничества команды «Литературного наследства» во главе с Зильберштейном и Дурылина стало масштабное исследование «Русские писатели у Гёте в Веймаре»5, опубликованное в четвёртом томе издания «Литературного наследства» в 1932 г.
В Киржаче не было большой научной библиотеки, как, например, в Томске, потому необходимыми материалами для работы Дурылина снабжали его друзья и ученики, однако особую поддержку оказывал Зильберштейн, инициировав работу целой команды по изысканию архивных материалов в Ленинграде и даже Германии. Выписки из архивов и библиотек отправлялись в Киржач по почте. Эта работа велась столь последовательно и активно, что даже вызывала возмущение в кругу сотрудников издания. Один из них (П. Н. Берков) с негодованием писал главному редактору: «Я слишком ценю себя, как научного работника, чтобы позволять трактовать себя в качестве поставщика материалов для Дурылиных, Жирмунских и пр.»6. В издательстве, можно сказать, было целое направление работы, которое сотрудники в переписке однажды обозначили как «дурылинские дела»7.
В одном из писем к Зильберштейну Дурылин откровенно признаётся, что именно благодаря его поддержке смог усвоить и внутренне принять то, что давно ощущал важным и необходимым, но что до сих пор оставалось для него как бы недостижимым. Он отмечает, что собственными силами не мог прийти к этому результату: требовалось дружеское участие, критическое слово и внимательное наставничество, которые и оказал Зильберштейн. Поэтому философ считал себя его должником8. Возникает закономерный вопрос: что именно составляло ту давнюю необходимость, о которой говорил Дурылин? В каком направлении он получил импульс двигаться под влиянием критики и участия со стороны Зильберштейна? Чем характеризуется направление, в сторону которого вел философа его товарищ, кстати говоря, начавший собственную литературную карьеру характерным образом, а именно, с работ, посвященных биографии В. И. Ленина?9
Например, давая указания относительно статьи о Н. В. Гоголе, Зильбер-штейн пишет, что ей необходимо придать «максимально боевой, политически заостренный характер»10, и выполнять она должна следующую задачу: «быть агитационно- массовой в самом точном смысле этого слова»11. Также редактор «Литературного наследства» дает указания по важной для Дурылина теме — религиозной, очевидно, учитывая, что его корреспондент к ней тяготел. Зильберштейн акцентирует внимание на том, что при анализе национальноосвободительных движений следует рассматривать феномен веры преимущественно в его политическом измерении, поскольку в подобных контекстах она выступала, по его мнению, именно как инструмент общественно- политической борьбы. Вера — «категория политическая»12, следовало подчеркнуть (!) Дурылину.
В издании работы «Русские писатели у Гёте в Веймаре» помещено редакционное предисловие, где отмечаются методологические недостатки исследования. Ключевым из них считается неполная проработка основополагающих аспектов взаимодействия Гёте с Россией, что связывается с отсутствием системного марксистского анализа рассматриваемой темы. Автор не сумел «дать марксистское исследование темы во всем её объеме»13, что бы это ни значило. Потому собранные Дурылиным воедино факты, осмысляемые в социологическом ключе, якобы приводят к нечетким и непоследовательным выводам. Так, он не до конца понимает, что главный нерв русского гетениан-ства — борьба «агонизирующей буржуазии» и «международного революционного пролетариата»14. Еще одно характерное замечание редакции журнала Дурылину состоит в следующем: «Нередко он теряет за субъективными намерениями человеческих помыслов и поступков их объективный классовый смысл… Ему не хватает <…> глубины проникновения марксиста, <…> его взгляд скользит лишь по поверхности, <…> там, где нужен острый скальпель марксистского анализа»15.
Такого рода замечания, направляющие на твердый путь пролетарского писателя, препарирующего острым скальпелем марксистского анализа действительность, за которой стоит объективный классовый смысл, а не просвечивает тонкая «нетленная порфира», Дурылин считал важными и необходимыми. Известно, что у Дурылина имелось и подтверждение высокого статуса пролетарского писателя: на билете № 492 Союза писателей СССР, заверенного подписью М. Горького в самый год образования этой организации (1934), была отпечатана его фамилия16. Сергей Дурылин — 492-й писатель в стройном ряду «литераторов Советского Союза, участвующих своим творчеством в борьбе за построение коммунизма, за социальный прогресс, за мир и дружбу между народами»17.
Е. А. Коршунова, автор монографии «Вариации русского модернизма: С. Н. Дурылин» и многих других работ, посвященных личности и творчеству философа, в одной из статей, посвященной заочным взаимоотношениям Ду-рылина и Горького, предполагает, что советские «структуры повседневности» (политическая несвобода) привнесли в характер Сергея Николаевича сложность, которая позволила ему «сохранить личность»18. Таким образом, его творчество необходимо рассматривать в разных планах (дискурсах) — приватном и публичном. Причем исследователь предполагает, что считать подлинным необходимо именно приватный план. В нем (представленном прежде всего мемуарами, писанными в стол («В своем углу»)) Дурылин может расправляться если не с самим Горьким, талант и смелость которого признавал, то с собирательным образом соцреалиста, поучая такового: «нужно обладать более совершенным изобразительным аппаратом, чем тот, каким располагают
Горькие»19. В публичном или официальном плане Дурылин высказывается иначе. Здесь Горький, по мнению Сергея Николаевича, «своими пьесами <…> закладывал тогда прочный, несокрушимый фундамент тому великолепному зданию, которому имя: советский театр, — театр рабочего класса- победителя»20.
Если рассматривать моральную сторону вопроса, ориентируясь на христианское представление о нравственности (отметим, что именно с таких позиций рассматривает Дурылина Е. А. Коршунова, упоминая в той же статье о его тайном священстве), то мы придем к иным выводам. Нам кажется более аргументированным для объяснения действительной позиции философа, учитывая приводимые выше отрывки из переписки Дурылина и Зильберштейна, обращение к концепции двоемыслия из известной антиутопии Дж. Оруэлла «1984», или к излюбленной Дурылиным народной мудрости: «В людях Ананья — дома каналья». Впервые публикуемая статья, посвященная А. С. Хомякову, относится к публичному плану раздвоенного мировоззрения философа, плану, который в последнее время вытесняется на периферию.
Работу, посвященную славянофилам, Дурылин предпринял по просьбе Зильберштейна. Планировалось издать ряд брошюр, посвященных писателям XIX в. Это предприятие было разрушено начавшейся вой ной, с началом которой «Литературное наследие» перестроило политику, в том числе из-за отъезда Зильберштейна в эвакуацию, и начало готовить издание патриотического тома. Статьи, предложенные в него Дурылиным, были раскритикованы новым редактором И. В. Сергиевским и не вышли в свет. Та же участь постигла и статьи о славянофилах, частично сохранившиеся в РГАЛИ.
В настоящей публикации в научный оборот вводится статья Дурылина, посвященная А. С. Хомякову. На страницах «В своем углу» Дурылин много размышляет над наследием славянофилов21, например, делает классическое противопоставление их западникам, в частности, рассуждая о роли в их жизни семейных уз. При этом два дискурса, которые в современном литературоведении принято разводить, у Дурылина не входят в противоречие. Он пишет в 11 тетради (Томск, 1928 г.) о двух различных онтологических системах, рассуждая в розановском ключе, — «бытии» славянофилов и «бытии» западников, ссылаясь при этом на К. Маркса: «…Нужно, чтобы история литературы честно и твердо признала (совсем по-марксистски), что есть не только 2 сознания, — но и 2 бытия, за этими сознаниями»22. О Хомякове Дурылин пишет как о человеке семейном, который с глубоким достоинством покрывал любовью деспотизм матери, хранил до брака целомудрие, и страстно любил свою супругу даже после её скоропостижной смерти, оставаясь «в скорбном, прекрасном целомудрии»23.
Однако раньше С. Н. Дурылин обращался к политической мысли Хомякова, к его рассуждениям о соотношении национального и общечеловеческого («служение народности есть в высшей степени служение общечеловеческому»), соглашаясь с этим высказыванием в статье 1916 г. «Лик России»24. В 1914–1915 гг. Дурылин, вдохновлённый событиями Первой мировой войны, выступал с лекциями в различных городах Российской империи (в том числе в Москве, Костроме, Рыбинске). Позднее этот текст был опубликован в формате отдельной брошюры. В выступлениях Дурылин, прибегая к характерной для него в тот период софийной риторике, возвышал славянофильский лозунг «Константинополь должен быть наш», который в равной мере был созвучен как Вл. Соловьёву, так и К. Н. Леонтьеву. В своём рассуждении он неоднократно обращался к идеям Соловьёва, полагавшего, что отказ народов от высшего духовного предназначения ведёт к утрате «внутреннего основания» их исторического существования25. На этом фоне вновь обозначилась опасность самообожествления целого народа, положившего в основу национальной и государственной идеологии принцип силы. Речь шла о германском этносе, который возвёл собственную империю в ранг божества, а её граждан объявил «сверхрасой», превосходящей другие народы, в том числе в антропологическом отношении.
Публикуемая статья26 представляет собой новый опыт обращения к старой, важной для Дурылина теме — патриотической, которая до сих пор, к сожалению, не стала предметом отдельного исследования. Ссылки и примечания автора приводятся в сносках, зачеркивание в тексте — это исправления, сделанные автором своей рукой в машинописном тексте. Примечания и ссылки, данные публикатором статьи, помечаются отдельно.
А. С. Хомяков (1804–1860)
Еще ребёнком Алексей Степанович Хомяков заслушивался рассказов о подвигах Карагеоргия, сербского народного героя, борца за славянскую свободу, а семнадцатилетним юношей Хомяков собрался бежать на помощь восставшим грекам. Побег не удался. Но вырвавшись за границу, Хомяков, всего 19 лет, уже странствовал по славянским землям, где, по его словам, «был принят, как любимый родственник, посещавший свою семью». При первой вести о вой не 1829 г. Хомяков добровольно сел на коня и появился на Дунае. «Проезжая по местам, куда еще не доходило русское вой ско, — вспоминал Хомяков, — я был приветствуем болгарами, не только как вестник лучшего будущего, но как друг и брат»27. Выйдя в отставку тотчас после заключения мира, Хомяков, сторонясь государственной службы, отдался мыслью, словом и пером тому делу славянского единения и свободы, которому начал служить еще в самой ранней юности.
Хомяков был одним из самых образованных русских людей XIX века. Кроме нескольких славянских и новых европейских языков, Хомяков владел латинским, греческим и санскритским языками, обладал глубокими познаниями в самых различных областях знания и культуры.
Писательская деятельность Хомякова, длившаяся около сорока лет, была необыкновенно разносторонняя: он владел пером поэта, критика, философа, богослова, историка, филолога, публициста, экономиста, — и в каждой из этих областей он составил примечательный след. В общем мнении друзей и противников, Хомяков был зачинателем «славянофильства», как литературного и культурного течения русской мысли и общественности 1840–1850 годов.
Если один из самых последовательных и литературно- одаренных славянофилов И. С. Аксаков признавал Хомякова «тем, кем жила и двигалась дружина» славянофилов, писателем, превосходящим других «славянофилов», «опытом жизни и универсальностью знаний», т. е. и постоянный и самый блестящий противник Хомякова со стороны западников, А. И. Герцен признавал у Хомякова «ум сильный, подвижный, богатый средствами», «богатый памятью»; «боец без устали и отдыха, он был и колол, нападал и преследовал… Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженным»28.
Много лет спустя, тот же Герцен, по случаю смерти А. С. Хомякова и ближайших его сподвижников И. В. Киреевского и К. О. Аксакова, сумел указать, на что была направлена, в основном и главном, мысль Хомякова и за что боролся он разнообразным оружием своего слова и мысли.
«Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело 29; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывши глаза, они могли сказать себе с полным осознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.
С них начинается перелом русской мысли . И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.
Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая .
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»30.
Со временным комментарием к этим словам Герцена в «Колоколе» могут служить слова новейшего светск ого исследователя русской историографии:
«Славянофильство 30–40-х годов отличается от его преемников 70-х годов и отличается от Погодина тем, что оно противопоставляет народ государству и стоит в оппозиции государству, хотя и в форме своеобразной дворянской оппозиционности. Это не та глубокая оппозиция, какую представляют левые западники, Белинский, Герцен и др. Но это была оппозиция самодержавию, и в их общественной и исторической идеологии она получила своеобразное выражение в решительном противопоставлении народа государству, в последовательном размежевании друг от друга. Тогда как у Погодина государство покрывает и заменяет собой народ, и народ все свои права передает государству. Славянофилы 40-х годов противопоставляют народ государству, утверждая определенные права народа, не подлежащие нарушению со стороны государства»31.
Такими «правами народа», не подлежащими отчуждению со стороны государства, Хомяков и ранние славянофилы, прежде всего, признавали свободу совести и веры и свободу мысли и слова (устного и печатного).
Для Хомякова «свобода в положительном проявлении силы есть воля», а «из всемирных законов волящего разума или разумеющей воли (ибо таково определение самого духа) первым, высшим, совершеннейшим является неискаженной душе закон любви»32.
Этот «закон любви» — для Хомякова — являлся верховным законом, как в области мышления философского и богословского, так и в сфере отношений историко- социальных.
Вот почему, человек православно- верующий, Хомяков стоял за свободу вероисповеданий и подвергал такой суровой критике официальные формы православной церковности, что ни одно богословское сочинение Хомякова не могло быть при его жизни напечатано в России, а напечатанный заграницей, уже после его смерти, том богословских его сочинений, был запрещен русской цензурой. Вот почему, сторонник и проповедник совершенно определенного общественно- политического мировоззрения, как будто бы смежного с официальной догмой «православия, самодержавия и народности», Хомяков был сторонником самой широкой свободы слова, а сам, подвергаясь постоянному преследованию цензуры и администрации, вплоть до запрещения не только печатать что либо из своих сочинений, но даже читать, был последовательным и непримиримым критиком господствующих форм русской государственности видя в них полнейшее нарушение «закона любви», который Хомяков почитал внутренним законом жизни, признаваемым русским народом и славянством»33.
Верховным выразителем богатых внутренних сил, таящихся в русском народе, для Хомякова было крестьянство: ему по преимуществу усваивал он имя «народ». «Что за гнилое сословие!» — восклицал Хомяков о дворянстве. — «Право, хуже поповского!»34. Хомяков был всегда горячим сторонником отмены крепостного права и ярким борцом против крепостничества. К. С. Аксакову Хомяков писал: «Все лучше, чем застой крепостного вопроса и безнравственность теперешних отношений, а особенно безнравственность равнодушия общего к ним»35.
«Для нас Русских, — писал Хомяков в 1848 году Ю. Ф. Самарину, также занятому вопросом об освобождении крестьян, — теперь один вопрос всех важнее, всех настоятельнее. Вы его поняли и поняли верно. Давно уже ношусь я с ним и старался его истинный смысл выразить елико возможно яснее»36. Не дожидаясь правительственной отмены крепостного права, Хомяков ввел в своих имениях «ряду» с крестьянскими обществами, основанную на свободном соглашении. В эпоху, предшествующую самому падению крепостного права, Хомяков заявил себя сторонником наделения крестьян землей на основе общинного землепользования. Из этого древне- народного «гражданского учреждения, — утверждал Хомяков, — может развиться целый гражданский мир». Эта сторона деятельности Хомякова и его сторонников — их борьба за освобождение крестьян с землею и за сохранение общины — была подобающе оценена Н. Г. Чернышевским37.
В грозную эпоху начавшейся Восточной вой ны 1853–1855 гг., призывая Россию на борьбу против «слепых безумных, диких сил», угнетающих славянские народы, Хомяков мужественно призывал Россию и ко внутреннему возрождению:
«В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени мертвой и позорной И всякой мерзости полна»38.
Во всей русской лирике нет более сильного и резкого изображения-обличения крепостной России, чем эти строки Хомякова.
Посылая эти стихи А. Д. Блудовой, Хомяков писал: «От печати я удален; но мне кажется, такие стихи должны быть полезными, призывая к серьезному пониманию великого дела, к которому мы идем». Свои стихи, как «канон покаяния», Хомяков Утверждая, что «добросовестный человек не выкинет ни слова» из его обличительных стихов39, Хомяков читал их, где мог, как «канон покаяния».
Стихи Хомякова вызывали бурю негодования в консервативном большинстве общества. Их автора обвиняли чуть-ли не в измене. Хомяков, и без того находившийся под тайным надзором полиции, был вызван на допрос к генерал-губернатору графу Закревскому. Его обязали не только не печатать, но даже не читать его стихов.
Стихотворение «России» прекрасно вводит в основную область мыслей и писаний Хомякова — в его суждении о русском народе и славянстве и об их месте в мировом процессе культуры и истории.
«Мы дошли до великих бед и срама по милости собственного умственного сна», — писал Хомяков к А. Ф. Гильфердингу после неудачного конца Восточной вой ны 1853–1855 года, — но тут же восторженно отзывался о героическом Севастополе: «Честь и слава кому следует! Эта защита разогрела все сердца; это происшествие, носящее на себе характер жизни, и жизни народной. Что̀ бы ни было впереди, а головы Русские приподнялись законной гордостью. Теперь говорю всем одно: труд, труд и труд, чтобы не посрамить себя и не подвергнуться великой ответственности». В Восточной вой не побежден не русский народ, а побеждена дворянско- бюрократическая государственность, теснившая жизнь и мысли народа, — побежден правительственный аппарат немецкого изготовления, не ведавший духовных сил русского народа и презиравший его тесную связь со славянством.
Вот почему Хомяков в том же письме делится со знаменитым славистом, своим учеником и последователем, своей радостью: «Здесь все радуются проявлению стремления к народному и Русскому. Освобождение от наружного подражания важно как знамя, вызывающее освобождение мысли от чужого авторитета, как вызов к самомышлению»40.
Запад — с его вековой культурой — всегда был и оставался для Хомякова, по его выражению, «страной святых чудес». В частности, Германия была для Хомякова классической страной-школой философского мышления. «Мудрствование», утверждал Хомяков, — «воплощенное в Германию и важно для просвещения человечества потому, что развилось действительно в размерах колоссальных в этой вечно думающей земле»41. Сам Хомяков с блестящим успехом прошел эту школу германского «мудрствования» у Канта, Шеллинга и Гегеля. Он отлично понимал историческое значение этих «годов учения» русского общества у «вечно думающей земли». В 1858 году он писал И. С. Аксакову: «Я все более и более убеждаюсь в одном: все ошибки Петра оправдываются (т. е. объясняются) странным безмыслием до-Петровской, Романовской, Московской Руси»42.
Но вместе с тем Хомяков был убежден, что для русского общества уже прошла нужда в этих принудительных «годах учения» у Германии. Он решительно утверждал про себя: «Мудрствовать без конца с чужим мудрствованием не стану, но совсем его отстранить нельзя»43.
Основным убеждением Хомякова было то, что на часах мировой истории пробил час для России и Славянства.
«История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения», — писал Хомяков в статье «По поводу Гумбольта» (1849), где отдавал должное знаменитейшему из германских ученых, — «он дает ей на это право за всесторонность и полноту ее начал, а право, данное историею народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из его членов»44.
«Всестороннюю полноту начал» России и Славянства Хомяков стремится раскрыть в философии, поэзии, языке, истории, общественном быте: отсюда сложная пестрота его тем и многочисленность областей, в которые заглядывала его мысль. Хомяков пишет огромные «Записки о всемирной истории» для того, чтоб показать в масштабе вселенском все то новое, благое для человечества и необходимое для его развития, что внес славянский мир во главе с Россией: «Долго страдавший, не окончательно спасенный в роковой борьбе, более или менее во всех своих общинах искаженных чужою примесью, но нигде не заклейменный наследственной печатью преступления и неправедного стяжания, Славянский мир хранит для человечества, если не зародыш, то возможность обновления»45.
В этих коротких строках — объяснение того пристального интереса, с которым Хомяков погружался в славянскую философию, поэзию, историю, этнографию. Выясняя славянский вклад во всемирную культуру и историю, Хомяков, естественно, принужден был отмежевать его от всех примесей и подмен, привнесенных в него враждебным славянству, миром германским. В «Записках о всемирной истории», в статьях и письмах Хомякова рассеяны замечательные по глубокомыслию и зоркости наблюдения над исторической сущностью «славянства» и «германства», над их противоположной ролью в судьбах Европы, над угнетательской воинственностью германизма и над мужественной мерностью славян. Хомяков с едкой критикой относится к историософским построениям германских ученых и философов, уличая их в фальсификаторской проекции исторического процесса, превращающей его в апологию «пруссачества». В своих статьях «По поводу Гумбольта», «Мнение иностранцев о русских» и «О современных явлениях в области философии» Хомяков подвергает тонкой и острой критике философию истории Гегеля, вскрывая, что ее абстрактный идеализм является зачастую совсем не-абстракт-ной апологией «германизма», подменяющего собою «человечество», — является, еще конкретнее, апологией «пруссачества».
«Для него (Гегеля), — иронизировал Хомяков, — Пруссия есть действительная причина Египетской или Германской истории и вовсе не в смысле телеологическом… Пруссия есть действительная причина Египта и Греции»46. Пророчески предвосхищая в этом суждении дальнейшие «откровения» пангерманизма и фашизма, объявивших германизм и «пруссачество» краеугольным камнем всей всемирной истории, Хомяков деятельно разоблачал темные исторические деяния германизма, освещаемые его апологетами, как победы культуры и цивилизации. Хомяков с негодованием писал о судьбе полабских и поморских славян, поглощенных воинствующих германизмом. Он натолкнул А. Ф. Гильфердинга на его известную «Историю Прибалтийских славян», на этот обвинительный акт историка против мнимых немецких культуртрегеров, истребивших приморских славян крестом, огнем и мечем. В замечательных письмах к Гильфердингу Хомяков указывал, что, освещая жизнь славян, глубоко- демократическую по устроению быта и власти, «немецкие летописцы, а потом и составители актов, любили часто давать ложное аристократическое значение явлениям, происходящим из общинного быта»47. Хомяков с верным историческим чутьем противополагал демократизм мирных славянских общин аристократизму германских «просветителей» славян- язычников: «Христианство завоевательное должно было быть отвратительным потому самому, что оно было глубокою ложью в отношении к самому себе»48. Всячески изобличая карательную роль германского мнимого культуртрегерства и указывая на бесчисленные его жертвы в славянском мире и вообще в истории, Хомяков делал из этого вывод политический: «Велик должен быть урок другим (славянским народам), какая предстоит опасность всем отдаленным племенам. Знают ли они или не знают (а надобно втолковать): всех спасет великий Русский резерв»49.
Неисчерпаемость исторических сил, богатство культурных возможностей этого «великого русского резерва» славянства Хомяков и стремился показать во всех областях исторического и культурного бытия — от древнерусского былевого эпоса (Хомяков толкнул на собрание былин Н. П. Рыбникова и А. Ф. Гильбердинга) до Глинки и Александра Иванова (Хомякову принадлежат статьи, впервые указавшие исключительное значение этих художников для русского искусства), от кровной, мудрой родственности русского языка санскриту, которым Хомяков владел первый и единственный из русских писателей50, до начал новой философии «волящего разума» и «разумеваю-щей воли», которые Хомяков противополагал без-действенной отвлеченности германского идеализма. Борясь с германизмом в истории, филологии, философии, ставя русским и славянским ученым новые и естественные задачи в области прошлого и настоящего России и Славянства, восклицая (по поводу «Ивана Сусанина» Глинки): «Нет Человечески истинного без истиннонародного!», — Хомяков в то же время категорически заявлял, как исконное свое убеждение: «Служение народности есть в высшей степени служение делу общечеловеческому»51. Через раскрытие богатств человеческого гения и духа в том, что присуще данному народу, с его «я есмь» в мысли, языке, культуре, истории, обогащается все человечество. Как верховный вывод всего своего направления, Хомяков утверждал: «Разумное развитие отдельного человека есть возведение его в общечеловеческое достоинство согласно с теми особенностями, которыми его отличила природа. Разумное развитие народа есть возведение до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом типе народного бытия»52.
Эта формула Хомякова, принятая всеми ранними славянофилами, как нельзя более далеко отстоит от тех формул «национального» и «народного» в его отношении к «общечеловеческому», которые во времена Хомякова исповедовались немецкими философами и историками. И если Гегель свою апологию Пруссии абстрагировал до размеров идеалистической проекции мировой истории, то современный немецкий фашизм — в полную противоположность формуле Хомякова — пытается вбить все человечество с его культурой и историей в кроваво- железный тип пруссачества со всей нищетой его мысли и со всей преступностью его воли.
Еще в 1848 году, — в эпоху почти всеобщей европейской революции, — Хомяков утверждал: «Первенство Германской стихии миновало… Славянские племена на мировом череду. Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами»53.
Скоро исполнится сто лет, как произнесены эти слова, но с особой силой воспринимаются они в наши дни. «На мировом череду» идет борьба жалких выродков «германской стихии» со «славянскими племенами» — и история ясно показывает, кто из борющихся смотрит в будущее: со славянскими племенами, возглавляемыми русским народом, объединены в едином союзе все те народы и страны, которые дорожат «святыми чудесами» европейкой культуры, злейшим врагом которой является насильничествующее «пруссачество».
Девяносто лет тому назад Хомяков обращался к России с такими словами:
«Иди! Тебя зовут народы
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!»54
Этот завет Хомякова — освободительный завет любви к родине, как любви к освободительнице народов, — с великой честью и мужеством выполняет русский народ в своей героической борьбе с врагом- варваром с германского Запада.
С. ДУРЫЛИН