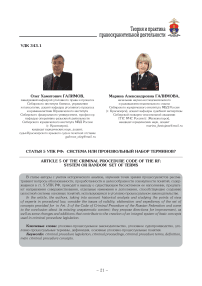Статья 5 УПК РФ: система или произвольный набор терминов?
Автор: Галимов О.Х., Галимова М.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (55), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье авторы с учетом исторического анализа, изучения точек зрения процессуалистов рассматривают вопросы обоснованности, проработанности и целесообразности совокупности понятий, содержащихся в ст. 5 УПК РФ, приходят к выводу о существующем бессистемном ее наполнении, предлагают направления совершенствования, отдельные изменения и дополнения, способствующие созданию целостной системы основных понятий, использующихся в уголовно-процессуальном законодательстве.
Уголовно-процессуальное законодательство, уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальные термины, дефиниция, основные уголовно-процессуальные понятия
Короткий адрес: https://sciup.org/140305837
IDR: 140305837 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Статья 5 УПК РФ: система или произвольный набор терминов?
П равильное понимание тех или иных процессуальных терминов в целях преодоления их неоднозначного толкования является важной гарантией успешного, с точки зрения достижения задач уголовного судопроизводства, обеспечения прав и законных интересов его участников.
В ст. 5 УПК РФ приведены дефиниции основных понятий, используемых в данном законе, для их единообразного восприятия при применении правовых норм. При этом в отличие от УПК РСФСР 1960 г., где разъяснялись 19 понятий, содержащихся в законе (ст. 34), ст. 5 УПК РФ содержит 74 определения.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: насколько это оправданно и практически обоснованно? Не случайно конструкция ст. 5 УПК РФ и содержание ее отдельных положений являются объектом обсуждения среди специалистов в области уголовного процесса [3; 4; 13]. При этом мнения ученых относительно рассматриваемой статьи, ее содержания, наполнения и обоснованности кардинально расходятся: от поддержки и одобрения (увеличение количества толкуемых законодателем терминов является «шагом вперед») [10, c. 37; 15] до полного непринятия [16].
Рассмотрим историческую обусловленность подобного подхода законодателя. Выделение норм-дефиниций в отдельную статью является «новацией» советского уголовного процесса. УПК РСФСР 1922 г. в ст. 23 определял значение 11 терминов: суд, революционный трибунал, судья, следователь, стороны, близкие родственники, законные представители, приговор, определение, суд I и II инстанции, в последнем случае формулируя, скорее, не понятие термина, а его содержание. УПК РСФСР 1923 г. оставил практически неизменной указанную статью, разделив лишь понятия «суд I инстанции» и «суд II инстанции». Первоначальная редакции УПК РСФСР 1960 г. в ст. 34 «Разъяснение некоторых наименований, содержащихся в настоящем Кодексе» предусматривала 16 пунктов, которые за все время действия уго- ловно-процессуального закона дополнились еще тремя (п. 5 А «председательствующий», п. 6 А «начальник следственного отдела», п. 6 Б «частный обвинитель»).
УПК РФ, сохраняя преемственность отечественного уголовно-процессуального закона в этой сфере, в ст. 5 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» первоначальной редакции закона содержал 60 пунктов, при этом качественно изменив состав норм-дефиниций: УПК РСФСР – «некоторые наименования», УПК РФ – «основные понятия».
Разработчики УПК РФ называли расширение закрепленного понятийного аппарата безусловным положительным моментом, достоинством нового уголовно-процессуального закона [12, c. 4-8]. Однако сами же открыли «ящик Пандоры», способствуя неуправляемости этого процесса (первые изменения в ст. 5 УПК РФ были внесены еще до вступления уголовно-процессуального закона в силу – Федеральным законом от 29 мая 2002 г. N 58-ФЗ (п. 6-8, 40, 47), и сегодня пытаются бороться с ним довольно непопулярными методами ограничений и запретов. Так, в октябре 2016 г. Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в Государственную Думу РФ был направлен законопроект, ограничивающий внесение изменений в УПК РФ одним разом в год. Согласно документу, изменения в УПК РФ будут вноситься отдельным федеральным законом, а включение таких норм в тексты других федеральных законов будет запрещено. Исключение составят положения уголовно-процессуального закона о подследственности и подсудности. Один из авторов проекта, Е.Б. Мизулина, пояснила, что «ключевое положение … заключается в том, что один раз в год будет вводиться в действие закон об изменениях в УПК РФ…, устанавливается единый день вступления в силу принятых в течение года федеральных законов о внесении изменений в кодекс – 1 марта года, следующего за годом принятия, если федеральным законом не предусмотрен более поздний год его вступления в силу». По
ее мнению, «принятие законопроекта позволит остановить практику произвольного изменения УПК РФ, обеспечить стабильность процессуального закона и прозрачность процесса подготовки внесения и принятия обоснованных изменений» 1 . Мы воздержимся от комментариев по поводу продуманности, обоснованности и целесообразности приведенного законопроекта, тем более что законодательного закрепления он так и не нашел. Отметим лишь, что только ограничительными и запретительными мерами проблему не решить. Законодатель может просто не успеть за стремительно меняющейся действительностью – «дорога ложка к обеду», многие предлагаемые нововведения к моменту их законодательного закрепления, учитывая длительный процесс согласования и принятия проекта закона, могут утратить свой регулятивный потенциал, который был необходим «здесь и сейчас».
Мы не можем признать обоснованной критику [16, c. 274-275] тенденции пополнения понятийного аппарата УПК РФ, имеющую место в среде процессуалистов [2, с. 12; 6, c. 7-8; 7, с. 3-8; 8, с. 72-84; 9, с. 7; 11, с. 16; 14, с. 22; 17, с. 11], поскольку доктринальные идей могут и должны находить отражение в тексте уголовно-процессуального закона, реализуя взаимосвязь триединой системы «наука-законодательство-практика». Основная задача здесь видится в создании единой концепции развития, абсолютный вектор которой еще полтора десятка лет назад был сформулирован В.В. Николюком: «В ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» должны содержаться те положения уголовного процесса, которые отвечают следующим требованиям: 1) то или иное понятие носит общий характер для всего уголовного судопроизводства или его отдельных стадий; 2) правильное уяснение содержания используемых законодателем понятий имеет важное значение для правоприменителя при осуществлении им процессуальных действий и принятии процессуальных решений, а для иных участ- ников уголовно-процессуальных отношений необходимо для защиты своих прав и законных интересов; 3) соответствующий термин не раскрывается в уголовно-процессуальных нормах, регулирующих конкретные вопросы досудебного и судебного производства по уголовному делу» [13, c. 151-157].
Бессистемное, хаотичное движение законодателя в этом направлении приводит к тому, что «основные понятия УПК РФ, собранные воедино и поименованные так законодателем, будучи рассматриваемыми в системе, выражают сущность судопроизводства, фактически являются «кратким справочником (словарем)» уголовного судопроизводства России» [1, c. 170].
Абсолютно обоснованным видится мнение, согласно которому «подмена действительно значимых, институциональных понятий уголовного процесса частными нормативными предписаниями технико-процедурного характера, «вырванными» из контекста соответствующих разделов, глав и даже отдельных статей УПК РФ, препятствует выстраиванию системы терминов и понятий, способных придать правовым уголовно-процессуальным конструкциям требуемую ясность, как обязательного условия единообразного понимания и точного применения процессуальных норм» [5, c. 128-129].
Всесторонне поддерживая саму идею необходимости определения в уголовно-процессуальном законе основных понятий и категорий, в качестве недостатков ст. 5 УПК РФ выделим следующие: 1) определение понятий, которые либо вообще не используются по тексту закона либо употребляются 1-2 раза (например; алиби (п. 1), непричастность (п. 20), свидетельский иммунитет (п. 40), следователь-криминалист (п. 40.1) и др.); 2) использование общеупотребительных терминов, которые в специальном пояснении не нуждаются (дознание (п. 8), досудебное производство (п. 9), суд (п. 48), судебное заседание (п. 50), судебное разбирательство (п. 51), судья (п. 54), уголовный закон (п. 57) и др.); 3) соотношение (повторение) либо противо- речивое значение приведенных норм с теми положениями, которые закреплены в специальных нормах (прокурор (п. 31), следователь (п. 41) и др.); 4) необъяснимый избирательный выбор понятий из группы однородных (например, из мер принуждения выбрано только задержание (п. 11), из перечня следственных действий в п. 14.1 и п. 24.1 даны определения только двум из них – контроль телефонных и иных переговоров, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами). И если внесение последнего следственного действия (получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) можно оправдать его новизной (введено Федеральным законом от 1 июля 2010 г. N 143-ФЗ), то следственное действие «контроль и запись телефонных и иных переговоров» эффективно использовалось правоприменителем и на момент принятия УПК РФ каких-либо сложностей, обусловленных неоднозначным пониманием, не вызывало.
Не можем обойти вниманием последнее дополнение ст. 5 УПК РФ. По инициативе Верховного Суда РФ Федеральным законом от 2 ноября 2023 г. N 524-ФЗ в рассматриваемую статью были внесены два пункта следующего содержания: «27.1) преступления, совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, предусмотренные статьями 20, 81.1, 108 и 164 настоящего Кодекса, – преступления, совершенные индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым в целях такой деятельности; 27.2) преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению данной организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, предусмотренные статьями 20, 81.1, 108 и 164 настоящего Кодекса, – преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией либо в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или иной экономической деятельности».
Лично у нас подобная формулировка и размещение этих понятий именно в ст. 5 УПК РФ вызывают недоумение. Складывается впечатление, что законодатель не имеет четкого представления как о системе основных понятий, употребляемых в основном источнике уголовно-процессуального права, так и о действительном содержании ключевых уголовно-процессуальных терминов.
Представляется, что нормы-дефиниции, используемые для разъяснения основных понятий УПК РФ, должны содержать специальные (оригинальные, ключевые) определения, подчеркивающие специфику уголовно-процессуальной деятельности и присущие ей особенности. Так, в качестве примера можно привести определения таких понятий, как «близкие родственники» (п. 4 УПК РФ), где в отличие от СК РФ (ст. 14) содержится указание на супругов, а также «законные представители» (п. 12 УПК РФ), включающее в их число учреждения и организации, на попечении которых находится несовершеннолетний, органы опеки и попечительства (в отличие от ст. 25.3 КоАП РФ и статей 20 и 26 ГК РФ). Вместе с тем хотелось бы высказать отдельные предложения, реализация которых могла бы способствовать правильному пониманию и использованию основных некоторых понятий уголовно-процессуального закона.
Изложенное в п. 12 ст. 5 УПК РФ определение законного представителя является не точным и не полным: «законные предста-
вители – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого дибо потерпевшего (выделено нами. – О.Г., М.Г.), представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства». Здесь отсутствует указание на законного представителя несовершеннолетнего свидетеля, несмотря на то что данный субъект, наряду с подозреваемым, обвиняемым и потерпевшим, упоминается в ст. 191 и 280 УПК РФ.
Кроме того, к участию в уголовном судопроизводстве законный представитель привлекается для защиты прав и законных интересов не только несовершеннолетних, но и лица, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера (ч. 1 ст. 437 УПК РФ).
Поэтому указанный пункт закона необходимо изложить в следующей редакции: «законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего либо свидетеля, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший либо свидетель, органы опеки и попечительства, а также близкие родственники лица, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера, а при их отсутствии – органы опеки и попечительства».
Положительно следует оценить попытку законодателя в 2013 г. разрешить одну из проблем, связанную с процессуальным статусом педагога, путем указания на лицо, правомоч- ное выполнять функции данного специалиста: педагог – педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся (п. 62 ст.5 УПК РФ). Однако более 20 лет с момента принятия УПК РФ аналогичная проблема относительно психолога, участие которого в следственных действиях, как и педагога, предусмотрено в ст. 191, 280 и 425 УПК РФ, остается неразрешенной, что не может не сказаться на единстве правоприменения. В связи с этим полагаем, что обсуждаемый специалист мог бы получить в ст. 5 УПК РФ следующее определение: «психолог – специалист в области возрастной (детской) психологии, имеющий образование и опыт работы, соответствующие данному профилю деятельности».
Подводя итог, необходимо заметить, что эффективность закона зависит в том числе от уровня его правотворческой техники, обоснованной и системной актуализации норм, что в полной мере относится к ст. 5 УПК РФ. Нормы-дефиниции, используемые для разъяснения основных понятий уголовно-процессуального закона, которые, по сути, являются его «изюминкой», должны содержать специальные (оригинальные, ключевые) определения, подчеркивающие специфику уголовно-процессуальной деятельности и присущие ей особенности. В этом направлении необходимо избегать непродуманного, бессистемного и хаотичного наполнения совокупности основных понятий, строго придерживаясь концептуальной идеи, заложенной в названии статьи, – основные понятия, используемые в уголовно-процессуальном кодексе.
Список литературы Статья 5 УПК РФ: система или произвольный набор терминов?
- Баранов, А.М. Основные понятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: монография / А.М. Баранов, К.Н. Смирнова. – М., 2015.
- Баскакова, В.Е. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Е. Баскакова. – Екатеринбург, 2009.
- Бахта, А.С. Логика уголовно-процессуального закона / А.С. Бахта // Труды академии МВД России. – 2018. – N 3. – С. 97-101.
- Бахта, А.С. Нормы-дефиниции в уголовно-процессуальном праве / А.С. Бахта // Российская юстиция. – 2009. – N 11. – С.56-59.
- Гапонова, В.Н. Основные понятия уголовного процесса: критический анализ содержания ст. 5 УПК РФ / В.Н. Гапонова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2020. – N 2(93). – С. 127-134.
- Гришина, Е.Б. Показания в системе видов доказательств в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.Б. Гришина. – М., 2010.
- Доля, Е. Источники доказательств в уголовном судопроизводстве / Е. Доля // Законность. – 2011. – N 12. – С. 3-8.
- Зажицкий, В.И. Источники в доказательственном праве / В.И. Зажицкий // Государство и право. – 2013. – N 10. – С. 72-84.
- Комиссаренко, Е.С. Следственные действия в уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.С. Комиссаренко. – Саратов, 2005.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2011.
- Марковичева, Е.В. Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизводства: автореф. дис. … докт. юрид. наук / Е.В. Марковичева. – Екатеринбург, 2011.
- Мизулина, Е.Б. Как создавался УПК / Е.Б. Мизулина // Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (МГЮА) / отв. ред. П.А. Лупинская, Г.В. Дашков. – М., 2002. – С. 4-8.
- Николюк, В.В. О совершенствовании статьи 5 УПК РФ / В.В. Николюк // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сборник материалов XIX международной научно-практической конференции (19-20 февраля 2009 г.): в 3 ч. – Красноярск, 2009. – Ч. 2. – С. 151-157.
- Орлова, А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механизмы ее реализации в российском уголовном процессе: автореф. дис. … докт. юрид наук / А.А. Орлова. – М., 2013.
- Победкин, А.В. Моральные победы – не считаются / А.В. Победкин // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2012. – N 4 (5). – С. 209-223.
- Попов, А.А. Нормы-дефиниции в уголовно-процессуальном праве: критический взгляд / А.А. Попов, И.А. Зинченко // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – N 8. – С. 273-277.
- Тутынин, И.Б. Наложение ареста на имущество как мера уголовно-процессуального принуждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук / И.Б. Тутынин. – М., 2005.