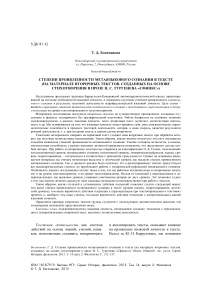Степени проявленности метаязыкового сознания в тексте (на материале вторичных текстов, созданных на основе стихотворения в прозе И. С. Тургенева "Сфинкс")
Автор: Богачанова Татьяна Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Вопросы концептологии и теории дискурса
Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследование продолжает традиции Барнаульско-Кемеровской лингвоперсонологической школы, ориентированной на изучение особенностей языковой личности, и посвящено изучению степеней проявленности метаязыкового сознания в результате текстовой деятельности непрофессиональной языковой личности. Цель статьи - выявить корреляцию степеней проявленности метаязыкового сознания с тенденциями к персонализации и деперсонализации на уровне текстопорождения и текстовосприятия. Материалом исследования послужили вторичные тексты на художественное произведение, созданные студентами в процессе эксперимента без предварительной подготовки. Работа базируется на основных понятиях лингвоперсонологии, а именно: языковая личность, текст, вторичный текст, метатекст, метатекстовая деятельность и др. Мы основываемся на том, что языковая личность может проявить себя, свои лингвистические, персонологические способности в процессе текстовой деятельности, которая, в свою очередь, является результатом речевой деятельности, т. е. при создании текста, в данном случае вторичного. Участники эксперимента, опираясь на первичный текст, создают свои вторичные тексты, при обработке которых мы получаем метатекстовые высказывания. Таким образом, анализ именно вторичных текстов оказывается способом выявления степеней проявленности метаязыкового сознания. Умение создавать метатексты, а именно, метатекстовая способность, у разных языковых личностей проявляется по-разному, что представляет для нас особый интерес. При работе со вторичными текстами мы опираемся на классификацию Н. Д. Голева: «молчаливый» или имплицитный уровень метаязыкового сознания, интуитивный уровень, эмпирическая рефлексия, оценка, уровень теоретизирования, - построенную в соответствии с принципом градуальности. Однако на основании имеющегося материала мы считаем возможным выделить и логический уровень как высшую степень проявленности метаязыкового сознания. Так, в процессе анализа было отмечено, что в рассматриваемых текстах присутствуют все вышеперечисленные степени, но преобладают работы с эмпирической рефлексией метаязыкового сознания. Особенность данного исследования состоит также в том, что мы работаем исключительно со вторичными текстами: и на уровне текстовосприятия, и на уровне текстопорождения. Исходя из тенденций к персонализации и деперсонализации, мы выявляем уровень узнавания участниками авторов на двух уровнях. Это позволяет судить о том, как именно личность реализуетсвои языковые возможности непосредственно при работе с текстом. Таким образом, анализ степеней и установление действия тенденций позволяет сделать следующий вывод: чем выше степень проявленности метаязыкового сознания в тексте (уровни оценки, теоретизирования, логический уровень), тем выше вероятность действия тенденции к персонализации при текстопорождении и текстовосприятии, и, наоборот, чем ниже степень, тем выше вероятность действия тенденции к деперсонализации данной языковой личности. Приводятся примеры вторичных текстов группы студентов с последующим лингвистическим анализом для иллюстрации положений, представленных выше.
Лингвоперсонология, языковая личность, метаязыковое сознание, тенденции к персонализации и деперсонализации, вторичныйтекст, метатекст, метатекстовая деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/147219276
IDR: 147219276 | УДК: 81`42
Текст научной статьи Степени проявленности метаязыкового сознания в тексте (на материале вторичных текстов, созданных на основе стихотворения в прозе И. С. Тургенева "Сфинкс")
Текстовая деятельность как система действий на основе знаний, умений, навыков, позволяющих создавать, воспринимать и анализировать тексты, оказывает влияние на проявление языковой личности в тексте. Вслед за Ю. Н. Карауловым, мы понимаем
Богачанова Т. Д. Степени проявленности метаязыкового сознания в тексте (на материале вторичных текстов, созданных на основе стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Сфинкс»)// Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 152–157.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология
термин языковая личность как «набор языковых способностей, умений, готовностей производить и воспринимать речевые произведения» [2014. С. 71], т. е. тексты, имеющие коммуникативную направленность. Текст рассматривается «как речевое произведение, репрезентирующее идею; коммуникативную ориентацию на адресата в рамках определенной сферы общения; обладающее информативной и прагматической сущностью (способностью нести информацию и воздействовать на адресата)» [Болотнова, 2007. С. 20]. По мнению Н. В. Мельник, текст – результат речевой деятельности, позволяющий смоделировать процесс речепорожде-ния, а из него – сконструировать различные способы, определяющиеся типом языковой личности [2011. С. 138].
Таким образом, текст – продукт первичной коммуникативной деятельности автора и вторичной коммуникативной деятельности адресата, детерминированный особенностями языковой личности, его порождающей и воспринимающей.
Первичная коммуникативная деятельность автора связана с порождением вторичного текста . По мнению Н. В. Мельник, «любой текст содержит в себе потенции саморазвития, которые могут быть реализованы на всех уровнях, в том числе и на текстовом, в создании вторичного текста на базе первичного» [Там же. С. 136].
Метатекст , являющийся результатом вторичной коммуникативной деятельности адресата при восприятии вторичного текста, традиционно можно охарактеризовать как высказывание о высказывании, текст о тексте, «в котором эксплицитно и имплицитно, осмысленно, сознательно и интуитивно… представлена о нем самая разнообразная информация… во многом обусловлена языковой личностью автора вторичного текста» [Сайкова, 2009а. С. 40].
Под метатекстовой деятельностью мы понимаем один из операционных механизмов речевой деятельности субъекта, а под метатекстовой способностью – способность к реализации метатекстовой функции языка, созданию «текста о тексте». Мета-текстовая способность реализуется в мета-текстовой деятельности, продуктом которой является «текст о тексте» [Воронова, 2006. С. 75], метатекст, являющийся «эксплицированным проявлением метаязыкового сознания» [Вепрева, 2005. С. 76], при помо- щи которого языковая личность анализирует текст, высказывания.
Метаязыковое сознание как форма общественного сознания существует на двух уровнях: на уровне теоретически систематизированного сознания (сфера лингвистики как науки) и на уровне теоретически не систематизированного сознания (сфера обыденного сознания) [Ростова, 2006. С. 23]. Обычно объектом анализа становятся тексты элитарной языковой личности, т. е. писателей, поэтов, ученых. Наша работа основывается на результатах речевой деятельности рядового носителя языка. Поэтому справедливо можно говорить о проявлении обыденного метаязыкового сознания в текстах. По мнению ученых, его функционирование может стать базой для изучения мировоззренческих установок языковой личности, ее особенностей и проявленности во вторичных текстах, которые выступают как персонометатексты [Сайкова, 2008. С. 236].
Для изучения особенностей языковой личности, текстовой деривации проводились эксперименты учеными Барнаульско-Кемеровской лингвоперсонологической школы (руководитель – д-р филол. наук, проф. Н. Д. Голев) Н. Н. Шпильной [2010], Н. В. Мельник [2011].
Цель нашей работы – изучить соотнесение степеней проявленности метаязыкового сознания с тенденциями к персонализации и деперсонализации на основании лингвистического эксперимента. В нем участвовали студенты 1-го курса педиатрического, лечебного, фармацевтического, стоматологического факультетов Новосибирского государственного медицинского университета (далее – ЯЛ-1, ЯЛ-2 и т. д.) 1. Гипотеза исследования состоит в следующем: высокая степень метаязыкового сознания свидетельствует о действии тенденции к персонализации, и, наоборот, низкая степень проявленности метаязыкового сознания – о действии тенденции к деперсонализации.
Эксперимент проводился в аудитории в два этапа на материале текста И. С. Тургенева «Сфинкс». На первом этапе студентам необходимо было продолжить предложенный текст, начав с фразы: «Да и сам я – не сфинкс ли себе?». На выполнение этого задания было выделено 30 минут, по завершении авторы подписали свои вторичные тексты и сдали их. Для чистоты научного исследования через несколько месяцев был организован второй этап эксперимента: подготовленные работы (напечатанные, без указания автора) были розданы группе для изучения, установления авторства, аргументации , т. е. студенты письменно отвечали на вопросы: «Как Вы думаете, кто написал этот текст?», «Почему Вы считаете, что этот текст принадлежит именно этому автору?». На выполнение данного вида работы было выделено также 30 минут. Так, в качестве объекта исследования может выступать сама лингвоперсонологическая рефлексия по поводу языковой личности авторов изучаемого текста и их текстовой отражен-ности [Мельник (Сайкова), Буксина, 2009]. По завершении индивидуальной письменной работы участники перешли к обсуждению результатов, по очереди высказывая свое мнение, мотивируя ответ. При помощи видео-, аудиоустройств велась запись их выступлений с целью более точной дальнейшей обработки. В общем, весь второй этап эксперимента длился от 1,5 до 2 часов (в зависимости от количества студентов в группе).
В ходе проведения экспериментов в 10 группах разных факультетов было получено более 100 вторичных текстов и более 1 000 метатекстов. Результаты, полученные в ходе исследования, мы представляем в данной статье на примере анализа 10 вторичных текстов участников одной группы педиатрического факультета.
При их анализе мы опирались на классификацию степеней проявленности метаязыкового сознания Н. Д. Голева: «молчаливый» или имплицитный уровень метаязыкового сознания, интуитивный уровень, эмпирическая рефлексия, оценка, уровень теоретизирования [Голев и др., 2009]. Мы выделили еще один уровень - логической рефлексии.
Одна из задач нашей работы состояла в выявлении закономерностей взаимодействия этих степеней с тенденциями к персонализации и деперсонализации, предложенными Э. Мунье [1999]. Первая указывает на способность к проявленности свойств личности, вторая тяготеет к «нивелированию свойств личности» [Сайкова, 2009б. С. 111], к пассивности в своих языковых проявлениях.
Мы установили, что при текстовосприя-тии проявляют себя все степени. Приведем пример вторичного текста ЯЛ-9 и метатекстов, созданных по нему, с последующим лингвистическим анализом.
Да и сам я – не сфинкс ли себе? Если просто подумать , то скорее всего я смогу с уверенностью сказать , что знаю себя и понимаю. Если покопаться где-то глубоко внутри себя , я начинаю осознавать , что я не знаю , кто я или зачем я здесь.
Я думаю , у каждого человека есть своя миссия , которая заключается в том , чтобы помогать другим людям , но все равно остается вопрос : « Кто я такая? », на этот вопрос , скорее всего , я смогу ответить , но только , когда я пройду предначертанный мне путь , а для того , чтобы сделать это , важно сначала понять свои чувства и мысли , а это очень долгая и тонкая работа. И в моей жизни есть люди , которые мне в этом помогают разобраться , это мои родители , которые дали мне эту жизнь , понимают меня и помогут пройти мне этот путь.
В самом конце я хотела бы добавить , что у каждого есть свой путь , который он должен пройти , у каждого есть свое предназначение , и здесь важно понять себя и поверить , что ты особенный человек , и найти людей , которые будут понимать тебя и верить в тебя. Я думаю , что так можно понять себя и свои мысли (ЯЛ-9).
Здесь формально представлено сочинение-рассуждение, написанное по определенному стандарту с трехчастной структурой. ЯЛ-9 не обратила внимание на особенности стиля И. С. Тургенева. При построении вторичного текста эмоциональность автора сводится к нулю и проявляется логика, например, в использовании ментальных глаголов думаю , подумать или конструкции а для того , чтобы сделать это , важно сначала ; в самом конце .
Текст тяготеет к персонализации личности, о чем свидетельствуют метатексты участников, правильно определивших автора.
Это ЯЛ-9 , « Если просто подумать » - вот это меня натолкнуло... « если покопаться где-то глубоко внутри себя », „.про родителей , она им благодарна .(ЯЛ-5).
ЯЛ-9 , я увидела фразу про родителей , меня она сразу на нее натолкнула (ЯЛ-4).
Это ЯЛ-9…начало сразу дает о себе знать… она пытается самобичеванием заниматься. Порой (ЯЛ-10).
Так, второе предложение текста ЯЛ-9 характеризует ее как личность не совсем последовательную и правильно выражающую свои мысли, отмечены экстралингвистиче-ские факторы – разговоры о родителях и склонность к самокритике и сомнению.
Обычно ЯЛ-9 активно выражает свою позицию ( « Я уверена прям на 100 % »), доказывая (« смогу с уверенностью сказать »), подтверждая ее фактами, часто противоречит сама себе ( « Если просто подумать .. , я знаю и понимаю себя. Если покопаться … я не знаю … »), сомневается в сказанном (« скорее всего »). Ей трудно подбирать слова и выражения для оформления своих мыслей, например, (« как это сказать , эммм…она как бы …», «… ладно , всё , а нет…вот »).
ЯЛ-9 при текстопорождении проявляет себя как персонализированная личность, авторство ее текста было установлено на 70 %.
При текстовосприятии ЯЛ-9 проявляет себя как персонализирующая , доказательством могут служить ее метатексты, созданные на основании анализа вторичных текстов других участников эксперимента ( У нее есть в жизни цель – стать врачом , и здесь в тексте тоже это говорится … она проста в общении , ответственна ), оперирует экстралингвистическими знаниями ( она как бы талантливая самая … танцевала ... ) или ссылается на интуицию. ЯЛ-9 также предпринимает попытки логического анализа прочитанного ( думаю , это ЯЛ-1... во-первых , потому что… в мужском роде написано , во-вторых … здесь отрывными фразами ) . Отсюда можно сделать вывод, что ЯЛ-9 обращает внимание на форму текста (использование мужского рода, пояснение), логически выстраивая свои аргументы, приводя примеры.
Таким образом, ЯЛ-9 является персонализированной , так как ее авторство было определено на 70 % участниками верно, персонализированной при текстопорожде-нии и персонализирующей при текстовос-приятии, на что указывают вышеприведенные тексты. Процент угадывания при текстовосприятии ЯЛ-9 составляет 50 %.
Рассмотрим метатексты, созданные на вторичный текст ЯЛ-9, в соответствии с принципом градуальности по классификации Н. Д. Голева.
Уровень молчаливого или «имплицитного» метаязыкового сознания представлен текстом ЯЛ-6 (… мне сложно было определить … я даже не знаю , честно … интуитивно ), где проявляется неуверенность или нежелание рефлексировать по поводу прочитанного текста. ЯЛ-6 говорит о сложности установления авторства, никак не объясняя выбор, но дает оценку своему речевому действию ( честно , интуитивно ).
Большинство текстов можно отнести к уровню эмпирической рефлексии , полученной на основании опыта, в процессе коммуникации с этой языковой личностью, в данном случае это влияние экстралингвис-тических факторов, проявляющихся в информации о поддержке, доброте родителей.
Например, ЯЛ-5: … говорила про родителей , …она им благодарна …
ЯЛ-7: … опора на родителей … они ей помогают всегда , постоянно.
Метатекст ЯЛ-4 относится к критерию оценки прочитанного, в котором участник отмечает понятность изложения: « Так развернуто , так ярко. Описания что ли больше … текст объемистый … понятно … красочно …», дает положительную оценку не только самому тексту, но и манере изложения автора « Мнение свое выражает ».
Отрицательная оценка, иронические комментарии представлены, например, ЯЛ-3: « Просто подумать ... » ха-ха!
Логическая форма метаязыкового сознания проявляется в использовании вводных слов во-первых , во-вторых и т. д. Например, в тексте ЯЛ-2: ЯЛ-9. « Ну , во-первых , это развернутый текст », используется метатексто-вый показатель, указывающий на определенное перечисление фактов, также ЯЛ обращает внимание на объем полученного текста.
ЯЛ-4 начинает свой ответ, подводя слушателей к итогу, к которому она пришла, с последующей расшифровкой и объяснением, а именно: « У меня опять какое-то двоякое мнение. Либо ЯЛ-9 , либо ЯЛ-3 » . ЯЛ-4 обосновала свой выбор, но сомневается (местоимение « какое-то ») .
Опора на метаязык лингвистики передается через реплику в сторону.
«... когда она говорит... все что угодно , господи … про человека …» (ЯЛ-4) . Участник подбирает слова.
«… она всегда говорит про свой дом… думаю , она бы туда с радостью поехала. Давайте скинемся! » (ЯЛ-2). Комментарий, произнесенный с иронией, поскольку ЯЛ-9 живет далеко, а студенты всегда нуждаются в деньгах, вызвал сильные эмоции.
Так, рассматриваемый текст ЯЛ-9 иллюстрирует высокую степень проявленности метаязыкового сознания. ЯЛ-9 является персонализованной и персонализирующей личностью. Таким образом, мы можем утверждать, что существует зависимость действия тенденций от степеней проявленности метаязыкового сознания во вторичных текстах при текстопорождении и при текстовосприятии. Гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась, а именно: высокая степень порождает действие тенденции к персонализации, а низкая степень – действие тенденции к деперсонализации. Результаты, отраженные в этой статье, представляют начальный этап исследования особенностей языковой личности и метаязыкового сознания. В перспективе мы предполагаем более детально рассмотреть и описать этот процесс на основе вторичных текстов рядового носителя языка (нефилолога) и, кроме того, совершенствовать дальнейшую разработку классификации степеней проявленности метаязыкового сознания в тексте.
При проведении эксперимента важную роль играет выбор аудитории и первичного текста, а также метатекстовая деятельность участников, их умение работать с текстом, анализировать, воспринимать и трактовать письменную речь, на что оказывают влияние собственно лингвистические и экстра-лингвистические факторы.
Таким образом, итоги данного исследования, классификации, теоретические положения могут использоваться в учебных курсах по общему языкознанию, лингвистике текста, а также на практических занятиях, посвященных анализу текста. Кроме того, они могут быть применены в сферах, ориентированных на идентификацию физического лица, например, в сфере лингвокриминали-стики, которая стремится выявить общие черты текста, характеризующие преступника. Здесь представлены некоторые теоретические положения, которые в дальнейшем могут послужить основанием для построе- ния типологии, портретирования и диагностики языковой личности на основе продукта ее речевой деятельности – текста.
Список литературы Степени проявленности метаязыкового сознания в тексте (на материале вторичных текстов, созданных на основе стихотворения в прозе И. С. Тургенева "Сфинкс")
- Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 520 с.
- Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху: Моногр. М.: Олмапресс, 2005. 384 с.
- Воронова Н. Г. Опыт диагностики текстовой способности//Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно ориентированное обучение: Моногр./Под ред. Н. Д. Голева, Н. В. Сайковой, Э. П. Хомич. Барнаул; Кемерово, 2006. 435 с.
- Голев Н. Д., Ким Л. Г., Ростова А. Н., Кишина Е. В. и др. Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты: Моногр./Под ред. Н. Д. Голева. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. 8-еизд. М.: Либроком, 2014. 264 с.
- Мельник Н. В. Деривационное функционирование русского текста: лингвоцентрический и персоноцентрический аспекты: Дис. … д-ра. филол. наук (рукопись). Кемерово, 2011.
- Мельник (Сайкова) Н. В., Буксина В. А. Метатекстовая деятельность в лингвоперсонологическом аспекте//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты: Моногр./Под ред. Н. Д. Голева. Томск, 2009. Ч. 2. С. 78-89.
- Мунье Э. Манифест персонализма/Пер. с фр. И. С. Вдовиной. М.: Республика, 1999. 559 с.
- Ростова А. Н. Языковое мышление в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ и в современной лингвистике//III Междунар. Бодуэновские чтения: И. А. Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания (Казань, 23-25 мая 2006 г.): Тр. и материалы: В 2 т./Под ред. К. Р. Галиуллина, Г. А. Николаева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. Т. 2. C. 22-25.
- Сайкова Н. В. Вариативность метатекстовой деятельности и типология языковой личности//Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Бийск, 2008. С. 234-238.
- Сайкова Н. В. Метатекстовая деятельность носителей языка: лингвоперсонологический аспект//Мир науки, культуры, образования. Горно-Алтайск, 2009а. № 2 (14). С. 39-42.
- Сайкова Н. В. Лингвоперсонологический анализ вторичного текста//Филологические науки. 2009б. № 3. С. 110-118.
- Шпильная Н. Н. Языковаякартина мира в структуре речемыслительной деятельности русской языковой личности (на материале сочинений по картине В. А. Серова «Девочка с персиками»): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Кемерово, 2010. 23 с.