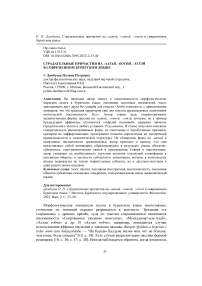Страдательные причастия на -аатай, -оотой, -ээтэй в современном бурятском языке
Автор: Дамбуева Полина Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Во введении автор пишет о многозначности морфологических маркеров залога в бурятском языке, омонимии залоговых показателей, часто замещающих друг друга без ущерба для смысла. Особо отмечается, с привлечением примеров, что эта традиция характерна ещё для текстов средневековых памятников монгольской письменности. Цель. Автор ставит цель охарактеризовать малоизученные формы пассива на -аатай, -оотой, -ээтэй, которые, не в пример предыдущим аффиксам, отличаются «твёрдой позицией», выражая значение страдательного залога в любых условиях. Результаты. В статье получили описание синкретичность рассматриваемых форм, их глагольные и атрибутивные признаки, критерии их дифференциации; предпринята попытка определения их частеречной принадлежности и семантической структуры. Не обнаружив форм на -аатай в памятниках письменности средневековья, автор приходит к выводу, что они представляют собой инновацию, образовавшуюся в результате смены объектно - субъектных, темо-рематических связей в предложении. Говоря о перспективах, автор указывает на необходимость изучения актантов глагольной словоформы в пассивном обороте, в частности субъектного дополнения, которое в монгольских языках выражается не только творительным субъекта, но и дательно-местным и даже родительным падежом.
Залог, пассив, пассивная конструкция, многозначность, омонимия, объектно-субъектные отношения, синкретизм, темо-рематические связи, неканонический пассив
Короткий адрес: https://sciup.org/148324137
IDR: 148324137 | УДК: 811.512.31
Текст научной статьи Страдательные причастия на -аатай, -оотой, -ээтэй в современном бурятском языке
Дамбуева П. П. Страдательные причастия на - аатай, -оотой, -ээтэй в современном бурятском языке // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 2. С. 33‒40.
Морфологические показатели залога в бурятском языке многозначны, уточнение их значений нередко разрешается в контексте. Традиция эта сохранилась с древних времён, судя по текстам сохранившихся памятников письменности «Сокровенное сказание монголов», «Мукаддимат-аль-Адаб», «Алтан тобчи» и др. В «Алтан тобчи», например, попадаются случаи использования аффикса каузатива в значении пассива: Burqan-Qaldun-a bogesun-i tedui amin-iyan buljuguldaba — “На Бурхан-Халдуне жизнь моя, что не больше, чем вошь, была спасена” [10, с. 18]. Есть случаи репрезентации пассива формой реципрока [10, с. 30; с. 47; с. 48]. Иногда наблюдается обратное, когда показатель
-гдэ , характерный для пассива, используется вместо маркера взаимного залога [10, с. 21].
В современном бурятском языке далеко не однозначны, например, показатели взаимного и совместного залогов — суффиксы -лда, -лдэ, -лдо; -лса, -лсэ, -лсо. В ряде случаев имеет место омонимия этих форм, они часто замещают друг друга без ущерба для смысла и ещё чаще выступают для обозначения множественности исполнителей действия. Глаголы с суффиксами взаимности в некоторых случаях не имеют значения взаимности: угаалдаха ‘мыться’, хубаалдаха ‘ делиться’, адалдаха ‘цепляться’, что не удивительно: этими суффиксами выражено залоговое значение рефлексива. В грамматической литературе по монголоведению значения рефлексива не получили своего описания из-за отсутствия морфологических показателей, но ведь это не значит, что возвратных значений в языке нет: человек ежедневно выполняет массу действий, направленных на себя (так или иначе его затрагивающих): он просыпается, поднимается, одевается, моется и т. д. и т. д. Значит, информацию о возвратных значениях, указание на референтное тождество объекта субъекту следует искать в многозначности «чужих» показателей (а также на других, отличных от морфологического, ярусах языка, т. е. уже в контексте залоговости — поля, включающего в себя лексические единицы, синтаксические, фонетические и другие средства передачи залоговых значений, с привлечением референтного уровня, равно как и грамматически значимых семантических категорий — субъектно-объектных отношений в предложении, выявлением актантов глагольной словоформы, сирконстантов и т. д.).
Употребление маркера побудительного залога вместо показателя пассива зафиксировано даже в современных словарях. Например, на с. [117] бурятско-русского словаря К. М. Черемисова [1973] читаем: буудуулха 1) велеть стрелять; 2) быть застреленным. На с. [76]: бажуулгаха 1) велеть сдавить (или сжать); 2) быть сдавленным. На с. [90]: барюулха 1) велеть взять или поймать; 2) быть пойманным. Положение это подтверждается примерами из произведений современной бурятской литературы: Ши, Мужуутка, тиигээгYй haa, γгытэйшγγлдэ, улаантанда буляалгуулхаш [Б. Цыб.]. — «Если ты, Мужутка, не сделаешь этого (не спрячешь), то бедняки, красные у тебя отберут (деньги и золото)». В этом предложении очень примечательна каузативная форма буляалгуулхаш : в ней использованы два побудительных суффикса, но дважды побудительная по форме, по содержанию конструкция является пассивной (Мужутка не мог побуждать красных отнять у него деньги и золото). Этот пример показывает, что иногда ведущую роль в разграничении залоговых значений выполняет не морфологический показатель, а контекст и прагматическая интерпретация высказывания. Сказанное позволяет утверждать: говоря о пассивных показателях, следует отдавать себе отчет в том, что чаще речь идет о морфологических предпосылках построения залоговых конструкций. Морфологическая характеристика бурятских страдательных глаголов с данными суффиксами может быть определена как слабая, недостаточная, поскольку сводится только к принципиальной способности как к побудительной, так и к страдательной реализации.
Однако в арсенале грамматических показателей пассива есть формы, отличающиеся непоколебимой «твёрдостью позиций», и это формы на - аатай, -оотой, -ээтэй , которые всегда, при любом раскладе, имеют значение только страдательного залога. Они образованы от причастий простого прошедшего времени ( оёо ‘сшил’, хушаа ‘ укрыл’) с помощью флексии совместного падежа -тай. Например, бэшэ- ‘писать’ - бэшээ ‘написавший’ - бэшээтэй ‘написанный’; таби- ‘поставить’ - табяа ‘поставивший’ - табяатай ‘поставленный’ [7, с. 57]. В списке суффиксов, данных в работе Г. А. Дырхеевой, О. В. Ринчинова, комплексы аа + тай, оо + той, ээ + тэй и другие рассматриваются как один суффикс [2, с. 23], с чем, вероятно, следует согласиться, так как, в отличие от аффикса совместного падежа -тай (унеэтэй, бэлигтэй, бузартай, хашартай), -тай в причастиях хушаатай, улгээтэй вместе с предыдущими аффиксами ~аа, -ээ, -оо выражает значение «подвергшийся действию со стороны, содержащий результат этого действия, который актуален в момент речи». Именно тому, что в семантике данных причастий на первый план выступает действие и его результат, а не производитель действия, конструкции с причастным пассивом обязаны своим предельно рецессивным характером: Дугар мяха шанаба ‘Дугар сварил мясо’. - Мяхан шанаатай ‘Мясо сварено’.
Формы на -аатай (-ээтэй, -оотой) синкретичны. Образованные от глагола, они совмещают признаки глагола и прилагательного. Признаки глагола грамматически выражаются прежде всего в наличии категорий времени, вида, залога, в сохранении модели глагольного управления и примыкания: ооһороор уяатай — юугээр уяатай? ‘веревкой завязан’ (чем завязан?), шангаар уяатай — ямарааруяатай? хэрээруяатай? ‘крепко завязан’ (завязан как?).
В контексте формы на -аатай, -оотой, -ээтэй выполняют, как и глаголы, функцию сказуемого, что зафиксировано и порядком слов в предложении; в соединении с личными формами глагола байха ‘быть’ образуют аналитическую форму. И в то же время, подобно прилагательным, эти формы могут быть использованы в атрибутивной функции — в качестве определения: Татаатай ковёрой дунда хушаатай модон орон (Ж. Тум.). ‘Покрытая (пледом) деревянная кровать (стоит) на расстеленном ковре’. Атрибутивное и предикативное употребление этих глагольных словоформ может быть дифференцировано, подобно случаю «модон халбага — ургажа байhан модон ‘деревянная ложка — растущее дерево’, по порядку слов в предложении или словосочетании: Дэгэлни оёотой — hаянай оёотой дэгэл ‘ Пальто (мое) сшито — Недавно сшитое пальто’.
Как видим, частеречный статус формы на -аатай, -ээтэй, -оотой несколько размыт, что, конечно, отражает более универсальные признаки, присущие монгольским и - шире — алтайским языкам: диффузность частей речи и в частности глагольно-именную неопределенность.
На основе сказанного формы типа уяатай, бэшээтэй можно, вероятно, квалифицировать как нефинитную форму глагола — причастие, а с учетом «страдательной» в грамматическом смысле семантики — как страдательное причастие. В пользу этого вывода говорит то: а) что пассивной является общая ориентация действия: оно совершено «кем-то со стороны» и направлено на объект, в отличие от субъектно-ориентированной активной конструкции с обычной подлежащно-сказуемостной структурой, обороты с данными причастиями являются объектно-ориентированными; б) в конструкциях с рассматриваемыми причастиями представлен такой структурно-синтаксический признак пассива, как наличие или возможность распространения предложения субъектным дополнением: модоор тушаатай уудэн ‘дверь, подпёртая палкой’.
Таким образом, аффиксы -аатай, -оотой, -ээтэй одним своим появлением в структуре причастия автоматически маркируют значение страдательного залога. На это указывают кроме названных выше признаков унифицированный характер формы и специализация на выражении пассивного значения. Эта специализация настолько выражена, что аффиксы -аатай, -оотой, -ээтэй могут нейтрализовать значение другого суффикса: их присоединение, например, к форме побудительного залога подавляет побудительную семантику, придавая глагольной словоформе отчетливое значение пассива: Үудэ хаалгаха ‘ попросить, заставить (кого-либо) закрыть дверь’ / Yyd^H хаалгаатай ‘дверь закрыта’. Унез hаалгаха ‘ попросить, заставить (кого-либо) подоить корову’ / Yнеэн hаалгаатай ‘корова подоена’.
Форма на - аатай , когда она представляет собой причастие (формант - тай может иметь еще относительное прилагательное), маркирует уход субъекта с позиции подлежащего — произошедший сдвиг в сфере залога. Судя по тому, что ее использование не имеет тотального характера, хотя причастия на - тай употребляются достаточно часто, можно предположить, что в ее образовании имеются семантические ограничения. Причастие на - аатай образуется, вероятно, от глаголов, обозначающих, во-первых, действие, имеющее в своем течении предел (от предельных глаголов), если отталкиваться от ее перфектной формы. Эти формы обозначают завершенное действие, уже включающее в себя представления о его начале и конце. Во-вторых, эти глаголы главным образом обозначают действия, выражающие: а) изменение положения объекта в пространстве ( улгеетэй ‘повешено’, табяатай ‘поставлено’); б) установление его контакта с каким-либо другим объектом ( уяатай ‘связано, привязано’, сомоотой ‘собрано, свалено (в кучу)’, хушаатай ‘укрыто, покрыто чем-нибудь’); в) список этот, вероятно, может быть продолжен.
Причастия на - аатай выражают статальное, точнее результативное, значение (если нет аспектуально значимых обстоятельств), а значит, вполне могут быть названы результативными причастиями.
Время, выражаемое причастием на -тай, имеет сложную семантическую структуру. У глагольного пассива парадигма временных форм и по составу, и по значению не отличается от соотносительной парадигмы временных форм актива: баригдана ‘задерживается (каким-либо обстоятельством)’, баригдаба задержан’, баригдаха ‘будет задержан’. Причастный же пассив как бы связывает два временных плана: а) действие совершено до момента речи; б) последствия совершенного действия актуально сохраняются в момент речи (с моментом речи говорящим синхронизируется результат действия). С этим обстоятельством связано то, что -аатай и его варианты предпочтительно используются, когда интервал между временем совершения действия и моментом речи относительно невелик, благодаря чему и сохраняется актуальность высказывания. В зависимости от характера вспомогательного глагола форма результативного причастия может отражать разные временные планы: а) в сочетании с нулевой связкой обозначает состояние, которое возникло в некоторый момент прошлого и существует в момент речи: убйэн сомоотой ‘сено собрано (в кучи)’; б) с вспомогательным глаголом прошедшего времени форма результативного причастия обозначает состояние, которое имело место до момента речи: сомоотой байгаа ‘было собрано в кучи’; в) с вспомогательным глаголом будущего времени передает состояние, которое будет существовать после момента речи: Хээрэ гарасаратнай Yбhэн сомоотой байха. — ‘Когда доберетесь до поля, сено будет собрано’.
Таким образом, предложение типа Мяхан шанаатай ‘Мясо сварено’ представляет собой бессубъектный страдательный оборот, двучленную пассивную конструкцию, призванную с помощью морфологических показателей - аатай, -оотой, -ээтэй выполнять коммуникативную, прагматическую задачу: когда говорящего не занимает субъект, он предельно, вплоть до эллиминации, снижает его коммуникативный ранг, делая его «неопределенным лицом», потому что у него иные акценты (для говорящего объект важнее, чем субъект, а в фокусе его внимания находится само действие, совершенное кем-то со стороны). Подобные двучленные пассивные конструкции с актантом в именительном падеже характеризуются тем, что субъекта в этих конструкциях нет, как нет каких-либо указаний на него из-за отсутствия такой необходимости.
Причастий на -аатай и его варианты в средневековых памятниках письменности не обнаружено. Это инновация, образовавшаяся в результате развития языка, а именно в результате смены субъектно-объектных, тема-рематических связей в предложении. Если «Мукаддимат-ал-Адаб» зафиксировал как обычное явление предложения типа « Лихорадка схватила мужчину » [МА, с. 120], « Снег держал его » [c. 149], « Эта работа сделала меня печальным » [c. 160], « Спина животного стала с ссадиной » [с. 96], « Земля стала с травой » (вместо « покрылась травой ») [c. 150], «Высокий человек стал дурак » (вместо « Высокий человек был одурачен ») [c. 96], то в последующем, включая современное состояние, язык развивался в сторону тематизации объекта путем его перевода в позицию подлежащего, и это вызвано прежде всего стремлением говорящего сделать предложение более разнообразным, избежав тавтологии, более красивым, благозвучным, а назвав не само действие, но его результат (« открыто », « схвачен », « взят » ), сделать свою речь лаконичной, отточенной и в то же время экспрессивной.
Категория залога, лежащая, по выражению В. В. Виноградова, на самой пограничной черте между грамматикой, лексикологией и фразеологией, в монголоведении в целом и в бурятоведении в частности представляет собой проблему, еще далекую от разрешения. Что касается пассивных значений, предстоит рассмотреть их с точки зрения актантов глагольной словоформы, в монгольских языках средства выражения, например субъектного дополнения, специфичны, могут выражаться не только творительным субъекта, но и дательноместным падежом и даже формой родительного падежа. В последнее десятилетие теория залога всё активнее дополняется сведениями о неканонических способах выражения пассива, когда на периферии поля залоговости привлекают внимание различные промежуточные явления в виде внутреннего противоречия пассивного содержания и активной формы.
К таким — неканоническим — способам образования пассива могут быть отнесены конструкции, включающие в свой состав имя существительное, в номинативном, свернутом виде обозначающее какую-либо ситуацию + вспомогательный глагол. В неканонических пассивных конструкциях могут быть использованы следующие глаголы.
Глаголы типа орохо в составе смыслового, лексического пассива, эквивалентного по значению пассивным формам, употребляются с дативом: аманда орохо ‘ попасть в рот’, перен . поддаться (чьим-то) пустым обещаниям, позволить (кому-то) себя уговорить; мэхэдэ орохо ‘ позволить (кому-либо) себя обмануть’; гарта орохо ‘ попасть в (чьи-либо) лапы’ , перен. ‘получить взбучку, подвергнуться головомойке’; хүүртэ орохо ‘ быть вовлеченным в слухи’; аягүй байдалда орохо ‘ попасть в неловкое положение’; үбһэн хурада ороо ‘ сено (сухое) побито дождем’; альбанда орохо ‘ попасть под чье-либо очарование’, хэһээлтэдэ орохо ‘ подвергнуться наказанию’.
В активной по грамматической форме, но пассивной по содержанию конструкции могут быть использованы глаголы с общим значением «получить, взять что-либо»: абаха, хүртэхэ, эдихэ. Например: сэгнэлтэ абаха ‘получить оценку’, түлхисэ абаха ‘ получить толчок, стимулироваться’, һургаал абаха ‘ получить урок’, ехэ хангалта абаха ‘получить чувство глубокого удовлетворения’, адис хүртэхэ ‘быть благословленным’, перен. ‘получить взбучку’; шагналда хүртэхэ ‘удостоиться премии’.
С вспомогательными глаголами үзэхэ, гараха образуются пассивные конструкции с указанием на экспериенцера — объекта, чье состояние является результатом какого-либо внешнего воздействия: жаргал үзэхэ ‘испытать счастье’, жаргалай заха үзэхэ ‘испытать краешек счастья’, туһа үзэхэ ‘познать заботу (чью-либо со стороны)’, бэрхэшээлые тэсэжэ гараха ‘пройти испытание’, нүхэ гараха ‘продырявливаться (например, в результате выстрела)’, гээгдэл үзэхэ ‘испытать потерю’, нүлөө(н) үзэхэ ‘испытать чье-либо влияние’.
Для образования страдательной конструкции используются глаголы болохо ‘становиться’, байха быть, болихо ‘перестать’: мүшхэлгэ доро байха ‘быть под следствием’, мэдэл доро байха ‘быть в чьем-либо ведении’, абаха танаггүй болохо ‘выходить из употребления, приходить в негодность’; баатай болохо ‘быть вынужденным’.
К этой же тематической группе, вероятно, относится неканонический пассив, который можно назвать личным пассивом, адверсативным пассивом (выражающим нежелательное воздействие) на пациенса: аляаһархаха ‘страдать от обилия мух, быть донимаемым мошкарой’; бороорхохо ‘страдать от ревматических болей, которые связываются с переменой погоды: выпадением снега, дождя, наступлением ненастья’; аягүйрхэхэ ‘страдать от неловкости положения’, хүйтэрхэхэ ‘страдать от холода’, мүнгэгүйрхэхэ, моригүйрхэхэ ‘страдать от безденежья, безлошадности’. Иногда такие глаголы имеют дополнительное значение, например: аюултаха ‘подвергаться опасности’, буритаха, яратаха, нүрөөтэхэ, алагтаха, мүлъһэтэхэ, дабһатаха, хүлхэнтэхэ, замагтаха ‘ покрыться плесенью, болячками, оспинами, полосками
(пестринками), льдом, солью, вмятинами, тиной (водорослями)’.
Говоря о подобных неканонических способах выражения пассива, мы отдаём себе отчёт в том, что речь идёт и о свойствах, присущих лексикосемантической природе глагольных основ. Следовательно, речь идёт о периферийном способе передачи пассива. Но именно такой характер многих средств выражения грамматических значений в монгольских языках всякий раз приковывает внимание: он свидетельствует о том, что при выраженной асимметрии планов содержания и выражения роль специфического маркера могут взять на себя периферийные, в первую очередь лексические, элементы. Впрочем, в пределах рассматриваемого частного языкознания эти элементы могут оказаться не такими уж и периферийными.
Список литературы Страдательные причастия на -аатай, -оотой, -ээтэй в современном бурятском языке
- Амоголонов Д. Д. Современный бурятский язык. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. 336 с. Текст: непосредственный.
- Дырхеева Г. А., Ринчинов О. С. Морфологическая структура слова в бурятском языке: лингвостатистическое описание (на материале художественного текста). Улан- Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. 98 с. Текст: непосредственный.
- Лубсан Данзан. Алтан тобчи ("Золотое сказание") / перевод с монгольского, введение, комментарий и приложения Н. П. Шастиной. Москва: Наука, 1973. 438 с. Текст: непосредственный.
- Лувсанвандан Ш. Орчин цагийн монгол хэлний бYтэц. Монгол хэлний Yг нехцел хоёр нь. Улан-Батор, 1968. 190 х.
- Орловская М. Н. Язык "Алтан тобчи". Москва, 1984. 234 с. Текст: непосредственный.
- Поппе Н. Н. Монгольский словарь Мукаддимат-ал-Адаб. Москва; Ленинград, 1938. 452 с. Текст: непосредственный.
- Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол. Москва, 1963. 266 с. Текст: непосредственный.
- Цыдендамбаев Ц. Б. Грамматические категории бурятского языка в историкосравнительном освещении. Москва, 1979.147 с. Текст: непосредственный.
- Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь. Улан-Удэ, 1973. 803 с. Текст: непосредственный.
- Hans-Peter Vietz, Gendeng Lubsang. Altan Tobci. Eine mongolische Chronik des XVII. Text und Index. Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa. Tokio, 1992. 278 p.