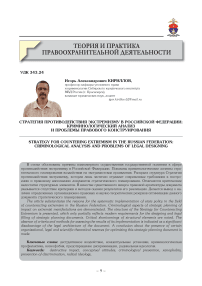Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации: криминологический анализ и проблемы правового конструирования
Автор: Кириллов И.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (58), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснованы причины планомерного осуществления государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации. Показаны криминологические аспекты стратегического планирования воздействия на экстремистские проявления. Раскрыта структура Стратегии противодействия экстремизму, которая лишь частично отражает современные требования к построению и правовому наполнению документов стратегического планирования. Отмечаются критические недостатки структурных элементов. В качестве существенного минуса правовой архитектуры документа указывается отсутствие критериев и методов оценки результатов его реализации. Делается вывод о наличии определенных организационно-правовых и научно-теоретических резервов оптимизации данного документа стратегического планирования.
Деструктивное воздействие, концептуальные установки, криминологическая профилактика, ксенофобия, предотвращение дискриминации, радикальная идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/140310051
IDR: 140310051 | УДК: 343.24
Текст научной статьи Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации: криминологический анализ и проблемы правового конструирования
П ринятие Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России от 28 декабря 2024 г. N 1124 (далее – Стратегия), ознаменовало новый виток концептуальных государственных установок и краеугольных механизмов воздействия на экстремистские проявления. Деструктивные угрозы гражданскому миру и согласию, государственной и общественной безопасности требуют планомерного осуществления государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации и, соответственно, обновления основных стратегических подходов к ее реализации. Указанный документ стратегического планирования направлен на обеспечение приоритетных государственных задач, выступает одним из правовых инструментов достижения такой национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, которая закреплена в Указе Президента России от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Фактически Стратегия выступила преемником Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N 344, и действительно отражает эволюционное развитие концептуальных государственных установок по противодействию экстремизму.
Научный интерес и практическую значимость представляет анализ Стратегии через призму криминологической доктрины, поскольку именно таким образом можно дать оценку ее профилактической ценности и сформировать прогноз дальнейшей результативности государственной политики противодействия экстремистским проявлениям. Более того, в условиях наращивания «мускулов» криминологии постмодерна или, как указывает Я.И. Гилинский, «неокриминологии» [2, с. 227-229], крайне важно наиболее общественно опасные и социально разлага- ющие явления, к которым относится экстремизм, рассматривать только через призму долгосрочных и концептуальных стратегий криминологического воздействия. Фактически можно вести речь о криминологическом анализе соответствующей политики противодействия экстремистским проявлениям. В этом заключается криминологическая новация и современный тренд соответствующих криминологических исследований. Ведь, как отмечают С.С. Босхолов и В.А. Номоконов относительно инноваций криминологии постмодерна, квинтэссенция преступления и преступности препятствует идентификации этих категорий в качестве объектов онтологической реальности, так как они являются лишь результатами уголовно-правовой политики, абстрактными конструкциями, «рождение» и «жизнь» которых институционализирована и подкрепляется государством, законодательной властью [1, с. 129]. Представляется возможным при рассмотрении концептуальных позиций Стратегии взять за основы как традиционные представления о содержании уголовно-правовой политики [7, с. 7-12], так и инновационные воззрения криминологии постмодерна.
С криминологических позиций Стратегия является не только документом стратегического планирования, но и материальным выражением идеологического обоснования ударного воздействия на экстремистские проявления. Такое воздействие предполагает реализацию мер по минимизации, нейтрализации и(или) ликвидации причин и условий, детерминирующих проявления угроз экстремизма в современной России. Ведь деструктивная идеология характеризуется существенным и даже избирательным негативным воздействием на социальную среду, поражением стабильности общественной жизни. Причем расширение сферы «метастазов» экстремизма приводит к эскалации механизмов разрушительного поражения социума.
Логика дальнейшего анализа поставленной проблемы предполагает обращение к общественной вредоносности и опасности экстремистских проявлений. В этой связи можно привести уже ставшими классическими слова
А.И. Марцева о том, что общественная опасность «может носить реальный и потенциальный характер» [4, с. 151]. С учетом данного тезиса реальный характер общественной опасности экстремизма состоит в непосредственном поражении безопасности государства и, при некоторой интерпретации, всего общества. Однако существующий механизм деструктивного воздействия со стороны крайних радикальных идеологий демонстрирует потенциальный характер вредоносности экстремизма, способного детерминировать нарушения общепринятых правил поведения в обществе и подрывать незыблемость традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разлагать общественную солидарность и гражданское единство. Не случайно согласно Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809, деятельность экстремистских организаций представляет «угрозу традиционным ценностям». На данные моменты обращается внимание в ряде специальных исследований [напр.: 3].
Кроме того, современный экстремизм характеризуется стремительным перерастанием в терроризм, то есть, по сути, открытые насильственные формы конфронтации криминальных структур и сообществ с российским государством. Так, в п. 10 Стратегии постулируется, что «наиболее опасным проявлением экстремизма является терроризм, представляющий глобальную угрозу международному миру и безопасности. Современному росту экстремистских и террористических угроз в мире способствует стремительное распространение экстремистской идеологии (включая неонацизм и радикальный национализм), в том числе в информационном пространстве».
В современных условиях экстремизм превратился в идеологический наполнитель механизма ведения гибридных войн против Российской Федерации, дестабилизации общественно-политической и социальноэкономической обстановки в государстве, формирования враждебного облика нашей молодежи. Вредоносность и общественная опасность экстремистских проявлений состоит в крайне глубоком и широком деструктивном проникновении в социальную среду, обладает как реальным, так и потенциальным свойством негативно влиять на сознание людей.
Таким образом, важно констатировать, что в Стратегии учтены данные особенности вредоносности и общественной опасности экстремизма.
Однако, на наш взгляд, структура Стратегии не в полной мере отражает современные требования к построению и правовому наполнению документов стратегического планирования. Документ включает восемь разделов, которые охватывают семьдесят два пункта.
В первом разделе зафиксированы общие положения, в которых, во-первых, закреплена цель разработки Стратегии – обеспечение дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации, а также конкретизация положений федерального ан-тиэкстремистского законодательства, во-вторых, раскрываются основные понятия, относительно которых имеется ряд нареканий (мы изложим их немного позже).
Второй раздел содержит основные источники угроз экстремизма в современной России. Необходимо отметить глубокий и достаточно широкий спектр действительно реальных угроз экстремистского характера, которые обозначены в данном разделе. В специальных исследованиях справедливо постулируется, что в проекте Стратегии делался акцент на том, что экстремистские угрозы трансформированы в «социально-политические технологии непосредственной активизации экстремизма на территории России, вовлечения в экстремистскую деятельность ее граждан» [5, с. 36].
Экстремистские угрозы подразделены на внешние и внутренние. Вместе с тем дальнейшая архитектура Стратегии практически не учитывает данную классификацию угроз. Единственным прямым упоминанием является ее использование в изложении одного из количественных показателей достижения результатов Стратегии – «снижение уровня активности носителей внешних и внутренних экстремистских угроз» (пп. 12 п. 63 Стратегии).
В третьем разделе раскрываются цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. Так, целями государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации (п. 34 Стратегии). Сообразно этой цели излагается перечень задач государственной политики в сфере противодействия экстремизму (п. 35 Стратегии). Основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму (п. 36 Стратегии) подразделены на группы: 1) в области законодательной деятельности; 2) в области правоохранительной деятельности; 3) в области государственной национальной политики; 4) в области государственной миграционной политики; 5) в области государственной информационной политики; 6) в области образования и государственной молодежной политики; 7) в области государственной культурной политики; 8) в области международного сотрудничества; 9) в области обеспечения участия институтов гражданского общества (в том числе социально ориентированных и иных некоммерческих организаций) в реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму. Обращает на себя внимание тот факт, что направлений девять, тогда как задач государственной политики в сфере противодействия экстремизму только семь. Как представляется, с точки зрения юридической техники данное несоответствие указывает на отсутствие методологической гармоничности соизложения таких ключевых положений Стратегии, как задачи и направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму.
Инструменты и механизмы реализации Стратегии закреплены в четвертом разделе. В качестве инструментов (п. 37 Стратегии)
выступают: 1) нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму; 2) документы стратегического планирования, разработанные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 3) государственные программы в сфере противодействия экстремизму; 4) научные исследования в сфере противодействия экстремизму; 5) образовательные программы, включающие в себя материалы по вопросам противодействия экстремизму; 6) социальные проекты в сфере противодействия экстремизму. Механизм (п. 40 Стратегии) составляет девять элементов (позиций), к основным из которых можно отнести: подбор, расстановку, воспитание кадров органов публичной власти, способных обеспечить выполнение мероприятий по противодействию экстремизму; обеспечение неотвратимости уголовного наказания и административной ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности; активное вовлечение в деятельность по противодействию экстремизму институтов гражданского общества (в том числе общественных объединений, социально ориентированных и иных некоммерческих организаций); патриотическое воспитание населения, содействие формированию у граждан активной позиции по противодействию экстремизму.
В рамках обозначенного раздела нельзя не обратить внимание на следующий момент. Так, в п. 42 Стратегии закрепляется положение, согласно которому эффективность реализации исследуемого документа «обеспечивается согласованной позицией субъектов противодействия экстремизму при осуществлении политических, правовых, организационных, информационных и иных мер». Вместе с тем в п. 34 Стратегии указано, что достижение ее целей «должно осуществляться путем реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях комплекса мер организационного и правового характера…». Следовательно, перечень мер, обеспечивающих эффективность реализации Стратегии, и мер, направленных на достижение ее целей, не тождественны. В этом ус- матривается упрек к юридической технике изложения положения Стратегии.
Пятый раздел посвящен основным этапам реализации Стратегии. Разработка плана мероприятий по ее реализации является первым этапом. На втором этапе предусмотрены: 1) выполнение мероприятий, предусмотренных указанным планом; 2) проведение мониторинга результатов выполнения данного плана; 3) прогнозирование возникновения экстремистских угроз и дальнейшего развития общественно-политических и социально-экономических процессов по направлениям деятельности субъектов противодействия экстремизму; 4) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества (в том числе социально ориентированных и иных некоммерческих организаций) в деятельность, направленную на противодействие экстремизму. На третьем этапе планируется обобщить достигнутые результаты и при необходимости подготовить предложения по корректировке Стратегии. Думается, что проведение мониторинга результатов выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии следует переместить в заключительный этап, поскольку данная деятельность самым тесным образом связана с обобщением и оценкой достигнутых результатов осуществления ан-тиэкстремистской деятельности.
Основные результаты реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года приводятся в шестом разделе. Отмечены успехи по модернизации законодательства в области противодействия экстремизму, деятельности правоохранительных органов, скоординированным межведомственным мероприятиям по ликвидации каналов финансирования экстремистской деятельности со стороны международных организаций и фондов, созданию в новых субъектах Российской Федерации профильных совещательных площадок в целях выработки консолидированных мер по противодействию экстремистским угрозам. Вероятно, важнейшим результатом выступило недопущение эскалации распространения экстремизма в Российской Федерации. В специальных исследованиях проводится со- поставительный анализ данных документов, приводящий к выводу о переходящей трансформации данных документов [6].
Седьмой раздел закрепляет ожидаемые результаты (28 позиций) реализации Стратегии. В соответствии с п. 63 Стратегии достижение данных результатов определяется четырнадцатью количественными показателями (например, доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности (в процентах) по годам, количество информационных материалов, внесенных в банк данных экстремистских материалов, или ликвидированных каналов финансирования экстремистской деятельности, ежегодный объем конфискованных средств). Однако следует отметить, что Стратегия, являясь документом стратегического планирования (п. 2 Стратегии), не содержит именно критерии и методы (сложно утверждать, что количественные показатели как раз и являются критериями и методами) оценки результатов ее реализации, что не соответствует такому принципу стратегического планирования, как измеряемость. Так, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в п. 11 ст. 7 закрепляет, что принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического планирования. В этом видится существенный недостаток правовой архитектуры Стратегии.
Заключительный раздел включает задачи, функции и порядок взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при реализации Стратегии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в рамках данного раздела весьма сложно понять, что относится к задачам такого взаимодействия, а что – к функциям. Порядок взаимодействия представлен в крайне купированном виде. Однако суще- ственной установкой выступает указание на то, что положения Стратегии являются основой для разработки и корректировки соответствующих государственных, региональных и ведомственных программ и планов, которые обязательны для выполнения всеми органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления (п. 72 Стратегии).
Относительно уже отдельных положений Стратегии имеются определенные замечания, которые указывают на необходимость дальнейшей проработки концептуальных идей, наполняющих государственную политику противодействия экстремизму.
Так, определение «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» (пп. 4 п. 4 Стратегии) обладает таким признаком, как «региональный конфликт», который, исходя из смысла всего определения, имеет лишь территориальную привязку и может достаточно неоднозначно пониматься. Более того, данный признак не отражает специфику именно экстремистских проявлений. Возможно, разработчики хотели провести некоторую параллель с сепаратизмом, но получилось использование лишь обобщенного признака.
Не в полной мере логичным видится соотношение понятий «идеология насилия» и «радикализм» (пп. 1 и 2 п. 4 Стратегии), поскольку первое из них раскрывается через оправдание применения насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей, тогда как радикализм – через приверженность идеологии насилия. Данная приверженность характеризуется стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, нарушению единства и территориальной целостности Российской Федерации. Как представляется, изменение основ конституционного строя возможно и без применения насилия либо в условиях, когда данное насилие применяется в сочетании с ненасильственными способами радикализма.
Кроме того, вызывает возражение ограничительный подход к признакам радикализма. Почему нельзя говорить о радикализме относительно не только стремления к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, нарушению единства и территориальной целостности Российской Федерации, но и стремления к кардинальному изменению, например, традиционных российских духовно-нравственных ценностей? В этом случае можно утверждать наличие своеобразного идеологического радикализма, который также должен попадать в фокус криминологического исследования.
Неполным является понятие ксенофобии (пп. 5 п. 4 Стратегии), так как, во-первых, оно не раскрывается посредством признака «враждебность», который отражает очевидное и однозначное проявление ксенофобии. Во-вторых, в нормативном определении ксенофобия ориентирована только в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также в отношении их отдельных представителей. Однако проявление враждебности возможно и в отношении традиционных ценностей и мировоззрения. Не случайно объектом криминологической профилактики выступают как отдельные лица и их разнообразные объединения, так и соответствующие социальные явления и процессы.
В Стратегии присутствуют ожидаемые результаты ее реализации, которые не выражают конкретные показатели. Например, пп. 4 п. 62 предполагает такой результат, как «повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия экстремизму», пп. 4 п. 62 – «активное участие институтов гражданского общества (в том числе социально ориентированных и иных некоммерческих организаций) в профилактике и предупреждении экстремистских проявлений». Данные «результаты» обладают крайне эфемерными, размытыми и неточными ожидаемыми результатами, которые превращают Стратегию (в этой части) в документ поверхностно-необязательного характера.
Имеет место не совсем правильное использование методологического инструментария в построении положений исследуемого документа. Так, пп. 6 п. 62 закрепляет такой результат реализации Стратегии, как
«формирование в обществе, особенно среди молодежи, нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии». Однако это не результат, а процесс. Более того, результаты должны носить реальный характер, а не утопический. На фоне данного замечания можно привести правильный пример одних из основных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму – «предотвращение любых форм дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной (этнической), языковой, идеологической или религиозной принадлежности», «формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности» (пп. 3 п. 35 Стратегии). Действительно, это именно направления в области государственной национальной политики. Хотя по логике разработчиков исследуемого документа данные направления также допустимо относить к результатам реализации Стратегии.
Таким образом, исследование Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, с одной стороны, продемонстрировало существенный криминологический потенциал ее положений, с другой – показало наличие определенных организационно-правовых и научно-теоретических резервов оптимизации данного документа стратегического планирования.
Список литературы Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации: криминологический анализ и проблемы правового конструирования
- Босхолов, С.С. Онтологические и метафизические основы общественной опасности преступлений: о тупике неокриминологии / с.с. Босхолов, В.А. Номоконов // Всероссийский криминологический журнал. - 2024. - Т. 18. - N 2. - С. 128-136. EDN: WCBSDS
- Гилинский, Я.И. В тупике ли криминология постмодерна? / Я.И. Гилинский // Всероссийский криминологический журнал. - 2024. - Т. 18. - N 3. - С. 227-231. EDN: GKNOVZ
- Грядунов, Ю.Ю. Анализ государственной политики России по укреплению традиционных идеологических ценностей / Ю.Ю. Грядунов // Вопросы политологии. - 2024. - Т. 14. - N 7 (107). - С. 2427-2434. EDN: VBIQBB
- Марцев, А.И. Общественная вредность и общественная опасность преступления / А.И. Марцев // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2001. - N 4. - С. 148-155. EDN: TKRVMZ
- Морозов, И.Л. Проект Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации - политический анализ новых подходов в спектре современных угроз / И.Л. Морозов // Общество: политика, экономика, право. - 2024. - N 10. - С. 31-39. EDN: RCRUDD
- Омелина, О.С. Сравнительный анализ Стратегии противодействия экстремизму до 2025 г. и проекта Стратегии противодействия экстремизму на период 2025-2036 гг. в Российской Федерации / О.С. Омелина // Актуальные проблемы государства и права. - 2024. - Т. 8. - N 4. - С. 546-551.
- Уголовно-правовая политика в Российской Федерации: учебное пособие / С.М. Мальков, А.В. Шеслер, П.В. Тепляшин, Е.А. Федорова. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. - 72 с. EDN: HSWQLO