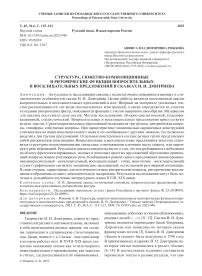Структура, сюжетно-композиционные и риторические функции вопросительных и восклицательных предложений в сказках И. И. Дмитриева
Автор: Рожкова А.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Третьи Фортунатовские чтения в Карелии
Статья в выпуске: 6 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования связана с недостаточным описанием языковых и стилистических особенностей сказок И. И. Дмитриева. Целью работы является комплексный анализ вопросительных и восклицательных предложений в них. Впервые на материале указанных текстов рассматриваются эти виды синтаксических конструкций, а также определяется их участие в создании риторических фигур, описываются функции с учетом жанрового своеобразия. Материалом для анализа послужили семь сказок. Методы исследования: обзорно-аналитический, классификационный, стилистический. Вопросительные и восклицательные предложения присутствуют во всех текстах. Среди вопросительных предложений выделяются три группы: риторические вопросы, гипофоры, собственно вопросы. При характеристике эмоционально окрашенных конструкций учитывались позиция восклицательного знака и его комбинации с другими знаками, что позволило выделить три группы предложений. Отдельные конструкции в составе разных групп представляют собой риторические восклицания. Вопросительные и восклицательные предложения зачастую становятся структурно-композиционными сигналами, отмечающими ключевые места сюжета, или маркируют речь персонажей. Результаты анализа свидетельствуют о том, что востребованность небольших по объему фразеологизированных, полных и неполных простых предложений обусловлена ориентацией жанра на живую разговорную речь. Комбинация в рамках одного предложения знаков препинания (вопросительный - восклицательный, восклицательный - точка, многоточие - восклицательный) служит графическим сигналом эмоционально насыщенной, естественной разговорной интонации. В свою очередь, характерные для поэтического языка риторические вопросы, риторические восклицания и обращения создают дополнительную экспрессию. Результаты исследования могут быть полезны в дальнейшем изучении литературного языка XVIII-XIX веков.
И. и. дмитриев, сказка, поэтический синтаксис, вопросительные предложения, восклицательные предложения, риторические фигуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147241458
IDR: 147241458 | УДК: 811.161.1'367 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.948
Текст научной статьи Структура, сюжетно-композиционные и риторические функции вопросительных и восклицательных предложений в сказках И. И. Дмитриева
Творчество И. И. Дмитриева, одного из представителей русского сентиментализма, включает в себя произведения разных жанров: им созданы лирические и сатирические стихотворения, оды, басни, песни и т. д. Сказки – еще один жанр, в котором работал поэт. В XVIII–XIX веках сложилось понимание сказки как «стихотворного повествовательного произведения, как новеллы в стихах, где рассказывается об обыкновенных, © Рожкова А. В., 2023
повседневных событиях из жизни обыкновенных, рядовых людей <…>» [11: 13]. Сказки И. И. Дмитриева являются переводами басен Флориана, Лафонтена или написаны по мотивам сказок французских поэтов [3]. Книга И. И. Дмитриева «Басни и сказки» была выпущена в 1796 году. В прижизненных изданиях И. И. Дмитриева некоторые сказки помещались в раздел «басни» [8: 14]. В последующих изданиях составители переносили тексты в разные разделы, что сви- детельствует о неоднозначном подходе к этому стихотворному жанру [11: 5–6].
Актуальность обращения к сказкам И. И. Дмитриева обусловлена отсутствием их системного лингвостилистического описания. Отдельные наблюдения над языком и стилем сказок поэта сводятся к очень лаконичным характеристикам, касающимся легкости «слога»1, установки «на имитацию устного рассказа» [8: 14], изящества «“легкой” дворянской поэзии» [11: 29]. Анализируя эволюцию стиля разножанровых произведений поэта, В. В. Виноградов отмечает лексико-фразеологические и морфологические изменения, которые представлены в разных редакциях сказок. Правка отдельных текстов отражает характерную для творчества И. И. Дмитриева тенденцию к выравниванию среднего слога, «к освобождению его от “низких” фамильярноразвязных выражений, а также от “славянизмов” и официально-деловых шаблонов» [2: 106]. Отмеченные ученым синтаксические изменения связаны со «стремлением придать речи непринужденную экспрессию разговора и освободиться от тяжелых и неблагозвучных конструкций» [2: 106].
Цель настоящей статьи – описание структуры и функций вопросительных и восклицательных предложений с учетом жанрового своеобразия текстов. Работа является продолжением наблюдений, проведенных автором ранее над текстами других жанров [9], [10]. Материалом для исследования послужили семь сказок: «Воспитание Льва» (1802), «Искатели Фортуны» (1794), «Калиф» (1805), «Картина» (1790), «Воздушные башни» (1794), «Модная жена» (1791), «Причудница» (1794). Все тексты опубликованы в разделе «Сказки» в издании «Полное собрание стихотворений»2.
ТИПЫ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Структура, семантика вопросительных предложений, своеобразие их функционирования исследовались учеными при рассмотрении языка и стиля разножанровых поэтических произведений, что доказывает важность таких конструкций в структуре стихотворного текста [5], [12], [13].
В исследуемом материале вопросительные предложения (74 единицы) входят в синтаксический строй всех текстов. Максимальное число таких предложений – 24 («Причудница»), минимальное – 3 («Воздушные башни»).
Предложения представлены разнообразными структурными типами: простые двусоставные и односоставные, осложненные, сложные (в том числе и многокомпонентные), фразеологизиро-ванные. Форму вопросительных предложений иногда получают вставные конструкции: «<…> А сад – поверите ль? – не только описать / Иль в сказке рассказать, / но даже и во сне его нам не видать».
Значительная часть вопросительных предложений представляет собой риторический вопрос, включенный как в речь героев, так и в рассуждения автора: «Кто на своем веку Фортуны не искал?», «Простите в том меня: я молод, ветрен был, / Так диво ли, что вас забыл?», «Где лучше, как в своей родимой жить семье?» . Выразительные возможности риторических вопросов усиливаются благодаря естественной для поэтического языка инверсии, что зачастую приводит к выдвижению значимого слова в начало вопроса: « Терпим ли, – он своим рассчитывал умом, – вид бедности перед дворцом?», «<…> / Давно ль такой-то в нас искал?».
Другим видом вопросительных предложений является гипофора – «фигура, состоящая в том, что говорящий задает себе вопрос, для того чтобы самому же ответить на него»3: «<…> Чего ж нам здесь ждать? – Со временем сумы».
Речевое взаимодействие героев сказок позволяет выделить разновидность вопросов, которые невозможно соотнести ни с риторическими, ни с гипофорами. Собственно вопросы являются элементами диалогов, которые связаны с героями, сюжетом и событиями: « “Да что, мой свет, такое? ” / – “ Нет, папенька, так, так, пустое …”». Структура, объем и содержание таких конструкций указывают на их разговорный характер, ср. неполные конструкции в репликах героев в сказке «Искатели Фортуны»: « “Фортуна здесь ? ” – его был первый всем вопрос. / “В Японии”, – сказали. / “ В Японии? – вскричал герой, повеся нос. – / Быть так! плыву туда”». Отрывистость, спонтанность живой речи проявляется в ряду нескольких неполных предложений в сказке «Картина»: « Где, где он? Там? А! Здесь? »
Грамматической особенностью значительной группы вопросительных предложений (около 30 % от общего числа) является наличие частицы ли (ль), что подтверждает наблюдения исследователей о частотности этой лексемы в поэзии И. И. Дмитриева [1: 123]. В «Словаре русского языка XIII века» отмечено функционирование этой частицы в риторических восклицаниях и во-просах4. Отметим, что в исследуемом материале эта частица обнаружена в составе разных типов вопросов. Функция частицы заключается в выделении информативно значимого слова, после которого она располагается: «Тебе ли государь, отказ такой снести?», «И знаешь ли, что мне / Привиделось во сне?», «Но славен добрый царь коварством ли и кровью?»
ТИПЫ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Из семи текстов выявлено 161 предложение с восклицательными знаками. Максимальное число таких предложений – 55 («Причудница»), минимальное – 3 («Калиф»).
Восклицательное предложение, являясь «специализированным грамматическим средством категории эмоционального» [6: 47], наряду с другими языковыми единицами востребовано в художественном тексте [7]. Графическим маркером эмоционально окрашенного предложения выступает восклицательный знак, являющийся и значимым стилистическим сигналом [14]. Учитывая наличие восклицательного знака, его расположение, а также структуру предложения, выделим несколько групп конструкций.
В первую, самую распространенную группу входят предложения, в которых есть только один восклицательный знак и он находится в конце предложения (68,32 %): « Князь Ветров шарк ногою! », « “Да!” – <подхватил Калиф >», « Что за диковинка !» Характеристика таких простых, нечленимых, фразеологизированных предложений как эмоционально окрашенных не вызывает сомнения.
Неоднозначными с точки зрения эмоциональной окраски видятся сложные по структуре предложения, особенно если их объем является значительным по числу слов и отдельных простых частей. В большом количестве примеров простые предложения в составе сложного отличаются друг от друга эмоциональной окраской и зачастую восклицательный знак соотносится только с последней частью. Например, подобную организацию наблюдаем в одном из самых больших по объему предложений из сказки «Калиф»:
«Ответ угоден мне; / И я тебе повелеваю: / Впредь помня навсегда, что в правде нет вины, / Исправить хижину на счет моей казны; / Я с нею только жить в потомках уповаю; / Да скажет им дворец: такой-то пышно жил; / А эта хижина… он правосуден был !»
Эмоциональность и некоторая торжественность последнего предложения подчеркивается лаконичной структурой, инверсированным порядком связки и именной части, выраженной кратким прилагательным-композитом. Предшествующее многоточие сигнализирует, с одной стороны, о пропуске глагола-сказуемого в предыдущем предложении, с другой – служит выраже- нием риторической функции умолчания, передает паузу, создающую напряжение перед значимой для содержания и идеи сказки финальной конструкцией.
В следующем предложении восклицательная интонация характерна для последней части: « Чрез два, четыре дни / Картина, думаю, уж может быть готова; / О благодарности ж моей теперь ни слова: / Докажет опыт вам – прощайте ! »
Небольшие по объему сложные предложения полностью охвачены влиянием конечного знака, и эмоциональная окраска сопровождает все части: « Вот только что схватить… хоть как, так увернется, / И в тысяче уже верстах! », « Стой, стой / Да слушай об одной Фортуне, / А сам все ничего! »
Использование сложных структур, с несколькими простыми частями, в которых восклицательный знак соотнесен только с последней частью, характерно также для одических произведений поэта (см. об этом [9]).
Особенностью второй группы предложений является наличие в них нескольких пунктуационных знаков, традиционное место которых – конец предложения (23,61 %). Речь идет о сочетании завершающего восклицательного знака и разбивающих предложение на несколько частей восклицательного или вопросительного знаков. При их внутреннем использовании каждая следующая часть в составе одного предложения начинается со строчной буквы, что было характерно для текстов той эпохи:
« Победил! благодарю судьбину! », « Какой мороз! моя ужасно терпит грудь: / Прощайте! », « Да ! не забыть притом и страстных голубочков – / Вот слабый вам эскиз! », « Ах ! счастлив, счастлив тот, кто лишь по слуху знал / И двор, и океан, и о слепой богине! / <…>».
Пример с вопросительным знаком: « Я слышал, в городе вас все зовут Апеллом: / Не можете ли вы мне кистию своей / Картину написать? да только поскорей ! » В следующем предложении несколько знаков выделяют вставную конструкцию и неполное предложение, что в целом передает взволнованную интонацию героя: « Надежда, счастие и будуща судьбина / Иль лучше, вся моя казна / Здесь в коробе погребена – / Вот вздор какой мелю! – погребена?.. пустое! »
Есть случаи использования многоточия в середине предложения, что служит для выражения умолчания, недосказанности, ожидания или размышления: « Согласен я, она нежна, остра, прекрасна, / Но для женатого… уж слишком любострастна!», «Отечеству отца даю, / А сам… теряю сына! » (см. также примеры выше).
Внутренний восклицательный знак используется также для выделения риторического обращения. В связи с этой риторической фигурой особо остановимся на одном примере из сказки «Воспитание Льва»: « Мохнатые певцы все взапуски кричат: / Скачи, земля ! взыграйте, воды ! » Обращение к элементам неживой природы свойственно поэтическим текстам [4: 97]. Похожие риторические обращения встречались в одах предшественников И. И. Дмитриева, например у А. П. Сумарокова: «Восстаньте, разных стран народы / Бунтуйте, воздух, огнь и воды!» (1755), М. В. Ломоносова «Пермесски воды, ликовствуй-те, / Шумя, крутитесь в злачный дол» (1762), В. И. Майкова: «Внемлите, смертных воды, / Внемли, земля, внемлите, воды, / Внемли, огнь, воздух и эфир <…>» (1774). В сказке И. И. Дмитриева торжественная интонация риторического обращения несколько нивелируется из-за контекста: к ликованию в честь рождения Льва-сына призывают («кричат») животные или птицы, перифрастически номинированные как «мохнатые певцы».
Третья группа включает предложения с точкой, многоточием, вопросительным знаком в конце и восклицательным знаком в середине, который выделяет одну часть (8,07 %). Отделенная восклицательным знаком первая часть может являться небольшим по объему (в среднем два слова) простым предложением разной структуры (двусоставным, односоставным, нечленимым, фразеологизированным):
« Фортуна – женщина! умерьте вашу ласку; / Не бегайте за ней, сама смягчится к вам.», « Быть так! плыву туда», « Нет, нет! такая жизнь несноснее всего», «Одне? тем лучше! где же он? ».
В описанных случаях предложения с внутренним восклицательным знаком характерны, как правило, для сложных конструкций. Посредством восклицательного знака выделяется именительный темы, междометие:
« Умеренность ! с тобой раздолье и в пустыне.», « Бедняжки ! жаль мне их: уж, кажется, в руках…», «Потом и одр любви, и миртовы кусточки; / Потом и нежные слетели голубочки; / Потом и смехи все велел закрасить он, / А наконец, увы! вспорхнул и Купидон».
В следующем примере два внутренних восклицательных знака выделяют междометие и прямую речь героя. Эта цитата буквально встроена в структуру предложения: « О! я уже тебя не трушу; / А ты передо мной дрожишь, / Бледнеешь, падаешь, прах ног моих целуешь, / “ Помилуй, позабудь прошедшее! ” – жужжишь… »
Отдельные предложения из разных групп представляют собой риторические восклица- ния. К признакам, определяющим конструкции как риторические восклицания, А. П. Сковородников относит эмоциональность, соответствующую интонацию, местоименные слова в несобственном значении, междометия, обращения, частицы, лексические и синтаксические повторы, особые зачины, начальное место в структуре предложения5. Исходя из этого перечня, приведем риторические восклицания из сказок:
« Вот таинство, вот ключ к высокой и святой / Науке доброго правленья!», «Ах, сколько бедствий, сколько зла!», «Божественный талант! изящное искусство! / Какой огонь! какое чувство!», «Как сказки я ее любил! »
В отдельных примерах наблюдается использование восклицательного знака внутри предложения.
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В СТРУКТУРЕ ТЕКСТА
В отдельных сказках вопросительные предложения занимают значимые места текста, то есть располагаются в конце или в самом начале, выполняя определенные функции [12: 58]. В сказке «Искатели Фортуны» текст открывается размышлениями автора об ищущих удачу людях:
«Кто на своем веку Фортуны не искал? / Что, если б силою волшебною какою / Всевидящим я стал / И вдруг открылись предо мною / Все те, которые и едут, и ползут, / И скачут, и плывут, / Из царства в царство рыщут, / И дочери судьбы отменной красоты / Иль убегающей мечты / Без отдыха столь жадно ищут?»
Предпоследнее предложение в конце сказки – это вопрос-гипофора с последующим ответом: «<…> Летит ко другу, – что ж? как друга обретает? / Он спит, а у него Фортуна в головах! » Аналогичная организация встречается в конце двух других сказок («Модная жена», «Причудница»).
Своеобразную роль в сюжетно-композиционном строе и характеристике образа героя выполняют вопросительные предложения в сказке «Картина». Эти предложения принадлежат только одному герою – князю Ветрову, заказавшему накануне своей женитьбы картину. Три конструкции маркируют части сюжета: заказ картины (« Не можете ли вы мне кистию своей / Картину написать? »), первый показ (« Не можно ли ее поправить как-нибудь? »), второй показ (« Возможно ль?.. Это я? »). В структуре, длине и содержании предложений (также как и в объеме монологов и их тональности) отражается разочарование героя произведениями художника и, вероятнее всего, супружеской жизнью.
Функцию вопросительного предложения в сказке «Искатели Фортуны» можно рассматривать как связку между эпизодами, сигнал поворота в повествовании, а также прием, который держит в напряжении читателя, его интерес: «< Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели.> / Но что же ? <Не прошло недели, / Как стран-ствователь наш отправился в Сурат …>».
Вопросительное предложение как ответ на вопрос содержится в диалоге между персонажами сказки «Воспитание Льва»: «“ Наставник, – он сказал, – подобные дела / Доходят ли когда до сведенья царева?” – “Как могут доходить? – Собака отвечает ”». Ответная реплика, содержащая скрытое утверждение, поддержанное дальнейшим рассуждением, является риторическим вопросом. В сказке «Искатели Фортуны» используется такой же прием (вопрос как ответ на вопрос), только диалог выстроен между автором-рассказчиком и его собеседниками.
Восклицательные предложения как маркированные единицы также занимают в рассматриваемых текстах сильные финальную и инициальную позиции. Из семи сказок три («Воспитание Льва», «Искатели Фортуны», «Калиф») завершаются восклицательными предложениями, две сказки («Картина», «Воздушные башни») – предложениями с точкой на конце, но с внутренним восклицательным знаком, выделяющим отдельные компоненты. В двух сказках восклицательные конструкции начинают произведение («Воздушные башни», «Модная жена»).
На примере одного текста («Воспитание Льва») проследим за ролью рассматриваемых конструкций в организации образного, сюжетного и идейного планов произведения. Восклицательные предложения и вопросы отмечают речевое пространство не всех героев. Например, речевая структура монологов и высказываний персонажей (Тигра и Медведя), лишенная таких предложений, воспринимается эмоционально нейтральной и модально одноплановой:
«Встал Тигр и говорит: / “Война, война царей великими творит; / Твой сын, о государь, быть должен страхом света; / И так образовать его младые лета / Лишь тот способен из зверей, / Который всех, по Льве, ужасней и страшней”».
Более того, автор отказывает отдельным героям в прямой речи, сжато пересказывая их суждения, тем самым подчеркивая второстепенный характер этих образов и их роль в развитии сюжета. Концентрация вопросительных и восклицательных конструкций характерна для речи Льва-отца, Собаки и Льва-сына, что выделяет этих персонажей с их способностью размыш- лять, реагировать (восторгаться, негодовать, сомневаться) на разные события. Ключевым является монолог Собаки, риторический характер которого обусловлен темой выступления (выбор наставника для Льва-принца) и поддерживается риторическими вопросами и вопросами-ги-пофорами: «Но славен добрый царь коварством ли и кровью? / Как подданных своих составит счастье он? / Как будет их отцом? чем утвердит свой трон? / Любовью». Концентрация вопросов, наличие однословной ответной реплики, являющейся по структуре неполным предложением, выступают в качестве риторического приема в речи героя, убеждающего в необходимости поиска достойного воспитателя.
Маркирована синтаксическая организация монолога Льва-сына:
«И вопит: “Победил! благодарю судьбину! / Но я ль то был иль нет?.. Поверишь ли, отец, / Что в этот миг, когда твой близок был конец, / Я вдруг почувствовал и жар и силу львину; / Я точно… был как Лев!”».
Сочетание незначительных по объему и разных по структуре восклицательных предложений (неполное и односоставное в составе сложного, простое двусоставное), вопросительное предложение, а также выраженная многоточием пауза передают разговорные, наполненные волнением и восторгом интонации героя.
ВЫВОДЫ
Тематика, сюжеты сказок обусловливают функционирование разных вопросительных и восклицательных предложений. Их использование во многом обусловлено самим жанром стихотворной сказки, тяготевшим «к стихии устной, разговорной речи» [2: 100]. Разговорный характер подчеркивается использованием фразеологизиро-ванных, простых полных и неполных предложений, неперегруженная лаконичная структура которых способствует речевой непосредственности и легкости. Присущая разговорной речи эмоциональность поддерживается восклицательными конструкциями, при этом восклицательный знак как графический маркер в некоторых случаях находится внутри предложений, усиливая эмоциональность отдельной части. Особенностям живой речи отвечают и предложения, в которых вопросительная часть включена в сложное эмоционально окрашенное предложение. Риторические приемы, которые реализуются в первую очередь посредством риторических вопросов, риторических восклицаний и обращений, призваны усилить выразительность речи и подчеркнуть идейно значимые части сказки.
Список литературы Структура, сюжетно-композиционные и риторические функции вопросительных и восклицательных предложений в сказках И. И. Дмитриева
- Васильев Н. Л., Жа т к и н Д. Н. Словарь поэтического языка И. И. Дмитриева: Монография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 128 с.
- Виноградов В. В. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева // Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М.: Наука, 1990. С. 24–147.
- Добрицын А. А. О сюжетных истоках четырех сказок И. И. Дмитриева // LITERARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1204026210&archive=1206184915 (дата обращения 16.06.2023).
- Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 206 с.
- Кульсарина И. Г., Хисамова Г. Г. Роль вопросительных предложений в поэтическом тексте // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14. Вып. 10. С. 3040–3045.
- Лекант П. А. Категории рационального и эмоционального в русском языке и в русской речи // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». 2012. № 5. С. 44–48.
- Опарина Е. О. Эмоциональные языковые средства в художественном тексте // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. 2021. № 4. С. 190–199.
- Песков А. М. Поэт и стихотворец Иван Иванович Дмитриев // Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 5–20.
- Рожкова А. В. Вопросительные и восклицательные предложения в одах И. И. Дмитриева: структурно-типологический и риторический аспекты // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 3. С. 40–47. DOI: 10.15393/uchz.art.2022.750
- Рожкова А. В. Типология односоставных и двусоставных вопросительных предложений и их роль в произведениях И. И. Дмитриева // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 1 (178). С. 85–89. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.277
- Соколов А. Н. Стихотворная сказка (новелла) в русской литературе // Стихотворная сказка (новелла) XVIII – начала XIX века. Л., 1969. С. 5–42.
- Хазбулатова Т. А. Вопросительные предложения в поэтической речи (На материале лирических произведений О. Мандельштама) // Русский язык в школе. 2008. № 3. С. 57–59.
- Хазбулатова Т. А. «И где, когда вне песен – негде?» (Лирические вопросы Бориса Пастернака) // Русская речь. 2011. № 4. С. 19–24.
- Штулайтерова А. Восклицательный знак – стилистический и психологический сигнал в стиле художественной литературы // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 218–224.