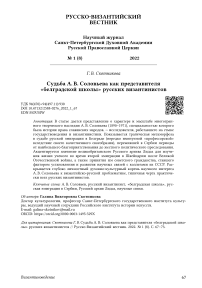Судьба А. В. Соловьева как представителя "белградской школы" русских византинистов
Автор: Скотникова Галина Викторовна
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Византиноведение
Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье дается представление о характере и масштабе многогранного творческого наследия А. В. Соловьева (1890-1971), специальностью которого была история права славянских народов, - исследователя, работавшего на стыке государствоведения и византинистики. Показывается трагическая метаморфоза в судьбе русской эмиграции в Белграде (нередко именуемой «профессорской» вследствие своего качественного своеобразия), пережившей в Сербии периоды от наибольшего благоприятствования до жесткого политического преследования. Акцентируется значение великобританского Русского архива Лидса для изучения жизни ученого во время второй эмиграции в Швейцарии после Великой Отечественной войны, а также принятия им советского гражданства, ставшего фактором установления и развития научных связей с коллегами из СССР. Раскрывается глубоко личностный духовно-культурный корень научного интереса А. В. Соловьева к византийско-русской проблематике, типичная черта практически всех русских византинистов.
А. в. соловьев, русский византинист, «белградская школа», русская эмиграция в сербии, русский архив лидса, научные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/140297530
IDR: 140297530 | УДК: 94(470)+94(497.11):930 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_67
Текст научной статьи Судьба А. В. Соловьева как представителя "белградской школы" русских византинистов

Обращение к византийско-русскому аспекту творческого наследия Александра Васильевича Соловьева (1890–1971) представляется значимым как для истории отечественной науки, так и для национального самосознания.
В жизни, полной трагических испытаний, выдающийся ученый явил собой замечательного по духовной силе и внутреннему свету русского человека. Автор биографии А. В. Соловьева, занимавший пост декана юридического факультета Белградского университета (2012–2018), Сима Аврамович сказал очень сильные по смыслу слова: «Александр Васильевич заслужил, чтобы не были забыты пережитые им великие, подобные библейским, муки, чтобы был не только отмечен вклад его в науку, но и написано житие. Памяти ради и во спасение других»1.
А. В. Соловьев двадцать шесть лет, с 1920 по 1946 гг., преподавал на юридическом факультете Белградского университета историю права славянских народов. Но при этом его научные интересы отличались многогранностью. Библиография трудов исследователя как правоведа, историка, филолога, византолога, музыковеда весьма масштабна, она включает сотни наименований.
Особое место в жизни ученого занимала
Александр Васильевич Соловьев русская литература. В 1921–1935 гг. он преподавал русский язык и русскую литерату ру в старших классах Первой русско-сербской гимназии Белграда. Позднее, в новой эмиграции в Швейцарии, с 1951 по 1961 г. читал курс славянских языков и литературы одновременно с чтением курса по истории Византии. В научном сообществе его авторитет в сфере древнерусской литературы был непререкаем. А. В. Соловьеву принадлежит ряд недавно опубликованных в России статей, по жанру — историософских исследований-размышлений, о русcкой культуре2.
Вместе с Георгием Александровичем Острогорским, Сергеем Викторовичем Троицким, Федором Васильевичем Тарановским, Владимиром Алексеевичем Мошиным Александр Васильевич Соловьев составлял «белградскую школу»3 по изучению славянских и византийских древностей.
После оккупации Чехословакии нацистской Германией в Белград переместился знаменитый Археологический институт им. Η. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum), являвшийся научно-исследовательским центром, объединявшим русских византинистов. Одним из руководителей института стал А. В. Соловьев4. Однако 6 апреля 1941 г. Германия напала на Югославию, и во время первой бомбардировки Белграда помещение Кондаковского института было разрушено. Уцелевшее имущество, прежде всего
книги, вновь было отправлено в Прагу. «После ликвидации белградского центра Пражское отделение возбудило вопрос об устройстве части его личного состава, Острогорского и Соловьева»5. Однако вопрос об устройстве Соловьева в Карловом университете затянулся, а затем и совсем сошел на нет из-за сокращения деятельности университета в военное время.
Основной научный интерес А. В. Соловьева состоял в изучении памятников средневекового православного права. Не случайно, что в настоящее время его творческое наследие актуализируется в среде представителей юридического научного сообщества и Сербии, и России. В Сербии интерес к А. В. Соловьеву более глубок. Речь идет о содержательных страницах фундаментального издания «Белоэмиграция в Югославии. 1918–1941», вышедшего в Белграде в 2006 г. в двух томах под редакцией известных сербских историков М. Павловича и Т. Миленковича6. В 2015 г. в связи с 125-летием со дня рождения А. В. Соловьева в Белграде состоялась международная конференция «Правовое регулирование в аспекте славянской правовой культуры»7, давшая развернутую картину научного вклада А. В. Соловьева в различные области знания. В Сербии А. В. Соловьева иначе не называют как «универсальный ученый», «великий ученый», «великий ученый с мировым именем», «разносторонне одаренный», «равновеликий во многих сферах».
В современной отечественной историографии Византии, возвращающей забытые реалии, главное внимание уделяется коллегам ученого — академику Г. А. Острогорскому, главе сербской школы византологии, и протоиерею академику В. А. Мошину8.
Обратим внимание на следующий парадокс. Труды А. В. Соловьева с конца 1950-х гг. печатаются в СССР в различных академических изданиях (см. Приложение). Вспомним, что это был период идеологически конфронтационной ситуации в нашей стране, настороженно относившейся к любым представителям русской эмиграции. Ведь, как известно, вектор такого отношения кардинально поменялся только с начала 1990-х гг.
Дело в том, что положение русской эмиграции в Сербии в течение 1920–1940 гг. претерпело кардинально разные стадии. В сложившихся после окончания Второй мировой войны сверхсложных для эмигрантов политических обстоятельствах А. В. Соловьев сделал выбор , приняв вместе с супругой советское гражданство.
В 1920-е гг. Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС, с 1929 г. — Югославия) в высшей степени благоприятствовало беженцам из России. Такие условия моральной и материальной поддержки русские не получали нигде, что было обусловлено близостью духовно-культурных традиций, а также большими потерями югославского общества в Первой мировой войне, приведшими к вакууму, прежде всего, в сербском обществе, в экономике и культуре. Здесь закрепились люди с православномонархическими убеждениями и высокими научными интересами. Эмиграцию в Сербии иногда именуют «профессорской». Король Александр I Карагеоргиевич говорил: «Помните, что есть в мире народ, который пожертвует хлебом для духовных благ, которому искусство, наука, театр — также кусок хлеба. Это — наши руские»9.
В эти годы в Югославии существовало три университета: в Белграде, Загребе и Любляне. В них преподавало много русских специалистов. Так, в Белградском университете на философском факультете трудились 19, на юридическом — 6, на богословском — 5, на техническом — 20, на агротехническом — 11 русских преподавателей. Много их было и на медицинском факультете10. В Белграде существовал «Русский Дом имени Императора Николая II»; действовали Русский научный институт, библиотека, гимназия, музыкальное и художественное общества, театр; было организовано Русское археологическое общество
После убийства в 1934 г. в Марселе короля Александра I Карагеоргиевича (1888– 1934) Сербия утратила самодержавие. Устоявшаяся жизнь русских эмигрантов в Белграде была перечеркнута войной, а затем новым режимом коммунистической власти Иосипа Броза Тито. Белоэмигрантам стало рискованно оставаться в стране. Начался «второй исход» для сотен тысяч русских, бегство в другие страны или срочная (в течение 10–14 дней) административная высылка. Для многих из них это стало началом длительных скитаний по лагерям DP.
На оставшихся в Югославии отразился и конфликт в отношениях Сталина и Тито в 1948 г. Русское происхождение само по себе начало восприниматься как свидетельство потенциального шпионажа в пользу СССР. «Пережившие 40-е гг. эмигранты на всю оставшуюся жизнь сохранили ужас перед любой идеологией и уже не верили ни в „оттепель“, ни в „перестройку“. Они твердо знали одно — быть русским в XX в. — „тяжелый крест“»11.
1940-е гг. стали практически тем рубежом, за пределами которого «приходится говорить о прекращении существования русской диаспоры в Югославии»12. Пострадав в двух больших «чистках» — 1944–1945 и 1948–1949 гг., русская эмиграция была уничтожена как самостоятельный феномен.
В годы оккупации А. В. Соловьев прекратил преподавательскую деятельность в Белградском университете. Ученый в этот период участвует в византологиче-ском семинаре Г. А. Острогорского, в дружеских профессиональных беседах в доме В. А. Мошина.
В военный период А. В. Соловьев преподает на богословских курсах при православном храме, пишет и опубликует ряд работ по проблемам истории права средневековой Сербии, правового положения сербских крестьян и ремесленников в Средние века, а также по проблемам истории геральдики, которые интересовали его еще в 1930-е гг. Именно этим вопросам и были посвящены статьи, опубликованные в воскресном приложении к газете «Обнова», которая ориентировалась на позицию главы марионеточного правительства Сербии генерала М. Недича13. Эти статьи и сыграли роковую роль в судьбе историка. Как отмечает С. Аврамович, из-за сотрудничества с «оккупационными изданиями» в годы войны он был вынужден покинуть Белградский университет, но в 1947 г. принял приглашение стать деканом юридического факультета университета в Сараево. В этот период А. В. Соловьев стал активно заниматься вопросами боснийской истории, прежде всего историей права и сюжетами, связанными с юридическим положением крестьянства в средневековой Боснии. В этот же период выходит ряд работ А. В. Соловьева, посвященных истории учения богомилов.
Академическая карьера в университете в Сараево была прервана арестом 9 октября 1949 г. А. В. Соловьеву было предъявлено обвинение в том, что в 1948 г. он прочитал, не сообщив об этом властям, текст резолюции Коминформа14 об исключении из этой структуры Югославии. Кроме того, по некоторым данным, сомнение вызывало и содержание лекций А. В. Соловьева, которые он читал студентам, на предмет их соответствия марксистской методологии. Несомненно, что «политическим фоном» ареста А. В. Соловьева и его жены Натальи Николаевны послужил разрыв отношений между СССР и Югославией.
Состоявшийся в 1951 г. суд приговорил А. В. Соловьева к восемнадцати месяцам тюремного заключения (которые он уже отбыл до суда) и лишению права на пенсию. Какое-то время семья была вынуждена жить на заработки Н. Н. Соловьевой, занимавшейся преподаванием иностранных языков. С большим трудом ученому удалось эмигрировать в Швейцарию. Однако, здесь та проблематика, которой он всю жизнь занимался, не вызывала большого интереса.
Основной комплекс источников по швейцарскому периоду жизни А. В. Соловьева хранится в Великобритании в Русском архиве города Лидса. Это около трехсот писем ученому, тексты его лекций, различные заметки, статьи для иностранных газет и журналов и др.15 Среди корреспондентов А. В. Соловьева значительное место занимают советские историки, в активных связях с которыми он, занимаясь русской историей, литературой и византинистикой, был очень заинтересован. Насыщенной была переписка с сотрудниками сектора древнерусской литературы Института русской литературы (ИРЛИ) в Ленинграде, помогавшими составить научно-справочный аппарат во время подготовки статьи, посвященной «Слову о полку Игореве». В свою очередь к А. В. Соловьеву обращались за консультацией советские исследователи, например, Ю. К. Бегунов. В переписке происходил обмен информацией о новых книгах по истории Древней Руси, вышедших как в СССР, так и на Западе.
В Архиве Лидса хранится двадцать одно письмо Д. С. Лихачева (за период 1957– 1968 гг.). Среди корреспондентов А. В. Соловьева были столь известные ныне ученые, как академик В. Л. Янин, академик Б. А. Рыбаков, историк А. А. Зимин. В Архиве Лидса хранятся три письма одного из крупнейших советских византинистов академика Г. Г. Литаврина; одно письмо 1958 г., принадлежащее выдающемуся историку Византии М. Я. Сюзюмову, работавшему в то время в Уральском государственном университете.
А. В. Соловьев разрабатывал византийскую проблематику, исходя из запроса русского самосознания, «чувствуя себя дома, припадая к истокам родных ключей», как писал о русском отношении к Византии А. П. Рудаков. При этом он шел по пути строгого академического исследования. Ход мысли А. В. Соловьева и вся система аргументации являют собой образец высокого уровня дореволюционной русской исторической школы.
Научное наследие А. В. Соловьева помогает русскому читателю войти в большое время мировой истории, осознать магистральные линии преемственности в православной цивилизации, сущностную самобытность отечественной культуры.
Несомненно, что ученый писал свои труды во имя этой высокой цели, обращаясь прежде всего ко всем своим соотечественникам.
Приложение
Труды А. В. Соловьева, опубликованные в СССР
-
1. Великая, Малая и Белая Русь // Вопросы истории. М.: Изд-во АН СССР, 1947. № 7. С. 24–38.
-
2. Византийское имя России // Византийский временник. 1957. Т. 12. С. 134–155.
-
3. Автор «Задонщины» и его политические идеи // ТОДРЛ. 1957. Т. 14. С. 183–197.
-
4. Русичи и русовичи // Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 276–299.
-
5. Восемь заметок к «Слову о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1964. Т. 20. С. 365–385
-
6. Кирилло-Белозерский список «Задонщины» и «Слово о полку Игореве» // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 257–262.
-
7. Ростовские хронографы и Хронограф Спасо-Ярославского монастыря // Летописи и хроники: сб. ст.: 1973. М., 1974. С. 354–359.
Список литературы Судьба А. В. Соловьева как представителя "белградской школы" русских византинистов
- Аврамович С. Житие и труды Александра Соловьева, корифея истории права // Русская эмиграция в Югославии. М.: Индрик, 1996. С. 237-250.
- Антошин А. В. Научные связи А. В. Соловьева в эмиграции в 1950-1960-е годы (по материалам архива Русского архива Лидса) // Славяноведение. 2010. № 4. С. 49-54.
- Басаргина Е. Ю. Археологический институт им. Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). По материалам архивов Праги // Мир русской византинистики: мат-лы архивов Санкт-Петербурга / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И. П. Медведева. СПб., 2004. С. 766-811.
- Белоемиграц^а у Jугославиjи. 1918-1941 / Приредили Т. МиленковиЬ, М. ПавловиЬ. Београд, 2006. Т. 1. 506 с. Т. 2. 359 с.
- Бондарева Е. А. Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья. М.: Вече, 2012. 448 с.
- Правовое регулирование в аспекте славянской правовой культуры: Международная научная конференция «125 лет со дня рождения Александра Васильевича Соловьева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 14. Вып. 1. 2016. С. 106-114.
- Иванов H.A. Г. А. Острогорский: вклад в Византологию (предисловие к публикации) // Христианское чтение. 2007. № 28. С. 185-190.
- Иванов И.А., свящ. Протоиерей В. А. Мошин как византолог и славист в Югославии. URL: https://old.spbda.ru/publications/svyaschennik-igor-ivanov-protoierey-v-a-moshin-kak-vizantolog-i-slavist-v-yugoslavii (дата обращения: 02.07.2022).
- Иванов И. А.. Творчество академика Г. А. Острогорского в эмиграции (биобиблиографический очерк) // Вестник ИНЖЭКОНА. 2008. №4 (23). С. 218-226.
- Иванов И. А, свящ. Русская византология в Европе и труды академика Г. А. Острогорского // Христианское чтение. 2010. № 1. С. 88-121.
- Нетленный венок / Сост. М. Кожина-Заборовская. Белград, 1936. 108 с.
- Соловьев А. В. Белая и Черная Русь. Опыт историко-политического анализа // Бондарева Е. А. Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья. М.: Вече, 2012. C. 290-325.
- Соловьев А.В. Национальное сознание в русском прошлом // Бондарева Е.А Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья. М.: Вече, 2012. С. 270-289.
- Соловьев А.В. Святая Русь. Очерк развития религиозно-общественной идеи // Бондарева Е. А. Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья. М.: Вече, 2012. C. 234-269.