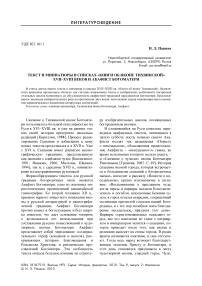Текст и миниатюры в списках «Книги об Иконе Тихвинской» XVII-XVIII веков и Акафист Богоматери
Автор: Панина Нина Леонидовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ текста и миниатюр в списках XVII-XVIII вв. «Книги об иконе Тихвинской». Выявляются принципы организации «Книги» как системы взаимосвязи текста и изображения, особенности построения отдельных циклов миниатюр и их обусловленность акафистной традицией прославления Богоматери. Прослеживается эволюция изобразительного ряда на протяжении двух веков, постепенная утрата миниатюристами понимания первоначального назначения копируемых композиций.
Книжная миниатюра, тихвинская икона богоматери, акафист, book мiniature
Короткий адрес: https://sciup.org/14737218
IDR: 14737218 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Текст и миниатюры в списках «Книги об Иконе Тихвинской» XVII-XVIII веков и Акафист Богоматери
Сказание о Тихвинской иконе Богоматери пользовалось большой популярностью на Руси в XVI–XVIII вв. и уже на ранних этапах своей истории претерпело несколько редакций [Кириллин, 1988]. Процесс редактирования Сказания и добавления к нему новых текстов продолжался и в XVII в. Уже с XVI в. Сказание имеет развитую иконографическую традицию, представленную как иконами с клеймами чудес [Бандиленко, 1991; Иванова, 1966; Мильчик, Шалина, 1994], так и, с середины XVII в., миниатюрами иллюстрированных рукописей.
Формообразующим текстом для русской традиции богородичных икон является Акафист Богоматери, одно из основных ма-риологических произведений византийской гимнографии. Ко второй половине XII в., времени первого известного появления иконы в русской литературной и иконографической традиции, Акафист Богоматери прочно вошел в богослужение и был широко известен, что дает основание говорить о возможности его использования при составлении русских повествований о чудотворных иконах Богоматери. Акафист представляет собой чередование «содержательных» строф (кондаков и икосов), раскрывающих историю Благовещения и Рождества Христова, и ритмических прославлений Богоматери. Эта особенность текста оказала большое влияние на структу- ру изобразительных циклов, посвященных богородичным иконам.
В сложившийся на Руси комплекс переводных акафистных текстов, читавшихся в пятую субботу поста, помимо самого Акафиста входят так называемая «Повесть о неседальном», объясняющая происхождение Акафиста – «неседального» гимна, во время исполнения которого нельзя сидеть, – и «Сказание о чудесах» иконы Богоматери Римляныни [Громова, 2005. С. 49]. История спасения иконой города, которая встречается в большинстве сказаний о богородичных иконах, восходит к рассказу «Повести о не-седальном», кратко изложенному в заглавии: «Воспоминание о преславном чуде, когда персы и варвары осадили Константинополь и погибли, искушенные Божиим судом, а город остался невредим, сохраненный молитвами пречистой госпожи нашей Богородицы, и с тех пор молебное поем благодарение неседальное, празднуя этот день». Варвары «христоненавидцы» осаждают город, все его население во главе с патриархом и императором молится о спасении, которое приходит после того, как иконы и реликвии выносят на стены города. В рядах врагов начинается смятение, и они отступают. Тогда весь народ возносит благодарственные молитвы Христу и Богоматери, и этот день становится праздником в честь чудотворной иконы, спасшей город. Чудо,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология
произведенное иконой, становится поводом для строительства храмов и монастырей. Эта цепь событий, воспроизводящаяся в текстах и изобразительных циклах, ниже обозначается как акафистная модель .
«Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской», свод произведений о Тихвинской иконе, была создана в середине XVII в. Выделены две основные редакции «Книги»: первая была осуществлена во второй половине 1650-х гг. иконописцем Тихвинского Успенского монастыря Родионом Сергиевым, вторая принадлежит Симеону Полоцкому и датируется 1671 г. [Серебрякова, 2003. С. 259]. Выявленные на сегодняшний день списки «Книги» хранятся в библиотеках и архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Новосибирска 1.
В родионовской редакции «Книги» в том виде, в каком она до нас дошла, встречаются службы иконам Богоматери: служба явлению Тихвинской иконы и служба иконе Одигитрии, одна из них или обе вместе. Всегда присутствует «Повесть о иконном изображении», рассказывающая историю нерукотворных образов Христа и Богоматери. Как правило, за ней следует глава «О пречестном изображении иконы Богоматери», где описывается иконография Тихвинского образа. Эта глава открывает цикл рассказов о явлении иконы в различных местах на реке Тихвинке и о сопутствующих этому событиях, заканчивающийся главой об устроении Тихвинского Успенского монастыря. Цикл соответствует «Сказанию о Тихвинской иконе Богоматери» в одной из его пространных редакций. Далее следует «Сказание об осаде» Тихвинского монастыря шведами в 1613 г., также в пространной редакции. Завершается «Книга» двумя циклами чудес, «старых» и «новосодеяных», т. е. имевших место до и после 1613 г. Родион Сергиев считается также автором цикла миниатюр первой, не сохранившейся «Книги» [Шалина, 2003. С. 465]. Родионов- ская редакция в нашем исследовании представлена рукописями XVIII в.
Акафистная модель в редакции Родиона Сергиева воплощается сразу целым комплексом текстов. Во-первых, это службы иконам Богоматери Одигитрии и Тихвинской. В текстах служб не раз цитируются «Повесть о неседальном» с его историей троекратного спасения Константинополя от варваров, и сам Акафист. Еще один текст из акафисного комплекса – «Сказание о иконе Богоматери Римляныни» – пересказывается в следующей за Службами «Повести об иконном изображении». Тема Константинопольской иконы Одигитрии появляется вновь в главах, посвященных истории Тихвинской иконы. Кульминацией и логическим завершением этой темы выступает «Сказание об осаде» Тихвинского монастыря шведами, где освещено заступничество иконы русским православным, подобное тому, что прославляется в Акафисте.
В «Сказании об осаде» ключевые моменты акафистной модели повторяются неоднократно. Это описание гордыни и зверств врагов, испуга осажденных, затем всенародная молитва образу Богоматери, с перечислением участников. За этим следует смятение в рядах врагов, часто вследствие явления Богоматери их предводителю, и их позорное бегство. Завершается все благодарственной молитвой Богоматери, торжественной процессией и установлением праздника в честь иконы. В «Сказании об осаде» нет специальных литературных приемов уподобления рассказа об осаде акафистному повествованию, какие мы увидим у Симеона Полоцкого. На первый взгляд это цепь совершенно конкретных событий, хроника вражеских атак, действий защитников и т. д. В построении рассказа чувствуется отголосок воспоминаний участников событий.
В тексте глав нет прямых ссылок или цитат из акафистных текстов, но сами названия глав утверждают связь с ними. Упоминание врагов в заглавиях, и в тексте также, никогда не обходится без эпитетов «зловерный», «поганый», «безбожный». Все они выдвигают на первый план варварскую природу врага, несмотря на то, что речь идет не о диких язычниках, даже не о мусульманах, а о шведах-христианах. Защитники же монастыря в заглавиях именуются «правоверными»: «О посрамлении зловерных право- верными». Акцент делается на истинности веры, а не на какой-либо другой причине противостояния. Единственным мотивом для осады выступает злостное неприятие шведами православной веры. При такой постановке вопроса роль иконы как защитницы «правильного» сообщества обозначается сразу.
Редакция Симеона Полоцкого 1671 г. содержит новые предисловия для циклов глав о явлении, новые чудеса, пространную редакцию «Сказания об осаде», а также «Слово на день праздника» с похвалой царю Алексею Михайловичу. В ней появляются многочисленные вставки и замены лексического характера [Серебрякова, 2003. С. 260]. Симеоновская редакция представлена рукописями XVII и XVIII вв., и именно к ней относится интересующая нас Тихомирова 26 .
Дополнения Симеона Полоцкого являются систематическими отсылками к тексту Акафиста. Таково начало «Сказания об осаде»: «Витийствующий язык оскудевает, всякое побеждается слово», прославления Богоматери, такие как «слепым свет, хромым нога, старым жезл, сирым мати, и вдовицам заступница», и др.
Названия глав разработаны Симеоном в соответствии с тональностью акафистных текстов. Сразу же заметны слова «о победе», «о великих победах», «о преславных победах», которые встречаются в названиях шести из тринадцати глав, и практически во всех, описывающих военные события. Остальные главы посвящены явлениям Богоматери. Победы начинаются с самой первой главы, где на самом деле речь идет только о нападении. Схема «нападение – победа» повторяется от одного названия к другому. Несмотря на свою пространность, заглавия предельно обобщены. Кто и в каких обстоятельствах нападает, из них не ясно, но неизменно подчеркивается, что благодаря заступничеству Богоматери нападение отбито.
В тексте «Сказания об осаде» отражены все ключевые моменты акафистной модели, а в миниатюрах они проиллюстрированы сценами моления и крестного хода, характерными для больших акафистных циклов, где они иллюстрируют те строфы Акафиста, которые связываются с прославлением иконы Одигитрии. В сравнении с этими циклами композиция миниатюр расширена таким образом, что внимание акцентируется на том пространстве, которое защищает икона, – пространстве, ограниченном стенами и окруженном вражескими ордами. «Сказание» открывается торжественной постановкой иконы в пространстве храма. Предстояние иконе и процессии с ней в окружении монастырской ограды сопровождают всякое упоминание текста о молитве, иногда они даются даже без подсказки текста. На уровне миниатюр акафистная модель воплощается не менее последовательно, чем на уровне текста.
То обстоятельство, что обе редакции на уровне текста едины в стремлении следовать схеме и образному строю Акафиста, облегчило адаптацию ряда миниатюр, который Родион Сергиев разработал для своей рукописи, к более поздней по времени редакции Симеона Полоцкого. В том, что последняя не имела собственного специально разработанного изобразительного ряда, нас убеждает как черновик автора [Серебрякова, 2003. С. 260], так и иконографические особенности миниатюр симеоновской редакции. В них нет принципиальных отличий от миниатюр рукописей родионовской редакции, разница же в составе циклов определяется разным количеством глав в двух компиляциях.
Анализ лицевых списков показывает, что если на уровне текста две редакции «Книги» выделяются четко, то на уровне миниатюр можно говорить только об одной редакции XVII в. и ее вариантах, полученных в процессе адаптации миниатюр к иному ряду глав, а также об изменениях этой редакции в списках XVIII в. Развитие литературной и иконографической традиции богородичных икон к началу XVIII в. прекращается. Весь XVIII в. дает нам уже только копирование, пусть и мастерское, предыдущих образцов. В эту эпоху сохраняется форма, но исчезает понимание содержания памятника. В таком направлении и происходит эволюция (деградация) изобразительного ряда «Книг» обеих редакций.
В рукописях обеих редакций как XVII, так и XVIII в. неизменно выделяются три больших цикла миниатюр. Первый посвящен явлению иконы и построению церквей и монастырей на Тихвине, второй – осадам «зловерных» Большого Успенского монастыря, третий – чудесам иконы.
В рукописях XVII в. прежде всего следует отметить особенность построения кодекса, расположения в нем текста и миниатюр. Мастера XVII в. стараются придерживаться правила: миниатюра на обороте, текст на лицевой стороне листа. Это не характерно для больших лицевых рукописей XVI в. и более поздних, созданных по их образцу. В них также существовало жесткое правило, но миниатюра шла вверху листа перед текстом.
В «Книге об иконе Тихвинской» XVII в. изображение и текст образуют разворот. Читатель может одновременно рассматривать миниатюру и узнавать ее содержание из текста, возвращаться от текста к миниатюре и обратно. Это говорит в первую очередь о значении, которое придается миниатюре в рукописи. Она отнюдь не является формальным элементом декора и разделителем глав. Она не является и просто параллельным тексту рассказом в картинках, как, например, в Лицевом летописном своде XVI в. Вспомним, что раньше в лист писались в основном выходные миниатюры, обобщающие содержание рукописи и в какой-то мере равнозначные иконам в их обобщающей вневременной и внесобытий-ной функции. В «Книге» указанной редакции выходная миниатюра пишется для каждой, пусть и короткой, в несколько строк, главы.
Это прямое следствие и яркое подтверждение того, что структура «Книги» как кодекса разработана иконописцем, и переписывалась «Книга» иконописцами (об этом говорят кодикологические особенности Уварова 804 и Егорова 855, особенности миниатюр Оболенского 122). Для них каждое изображение было в первую очередь клеймом иконы, которое существует автономно от текста, а содержание этого клейма поясняется в надписи. Все миниатюры «Книг» XVII в. снабжены пространными подписями, не совпадающими с пассажами текста, а миниатюры Оболенского 112 – даже совершенно иконными киноварными надписями по верху и низу изображения. Интересен сам факт, что для художника название главы, следующее сразу за миниатюрой, не является заменителем подписи под миниатюрой. Он всегда делает подпись или надпись внутри изображения, даже если название главы при этом дублируется. Так должен был поступать иконописец, имею- щий дело прежде всего с изображениями, и только затем – с текстом.
Икона в целом и каждое ее клеймо предназначены не для беглого обзора, как иллюстрации в процессе чтения книги. Само понятие иконы требует долговременного созерцания, всматривания в изображение, сопереживания запечатленному там вечно длящемуся действию. Создатели «Книги» вольно или невольно привнесли этот аспект в книжную миниатюру, которая к тому времени уже полностью утратила все функции, кроме параллельного тексту повествования и дополнительной аргументации текста. В этом смысле «Книги» XVII в., возможно, являются последним всплеском искусства лицевой рукописи.
Изменения в изобразительном ряде рукописей XVIII в. прослеживается по симео-новской редакции. Упрощение композиции миниатюр по сравнению с XVII в. заметно сразу. Но не следует сводить все изменения в содержании миниатюр к упрощению.
Последовательное выстраивание текста по акафистной модели в редакции Симеона Полоцкого, в XVIII в. не имеет никакого отображения в миниатюрах «Книг» этой редакции. Полностью исчезает из миниатюр «Сказания об осаде» торжественная сцена моления перед Тихвинской иконой, не говоря уже о постановки иконы в храме без персонажей. Если в Уварова 804 «Сказание» начинается этим последним вариантом, а в Оболенского 122 – молением иконе в стенах монастыря, то в рукописях XVIII в. выходной миниатюрой этого цикла становится простое изображение иконы. И оно становится единственным во всем цикле. Даже те главы, в названии которых прямо указано участие иконы в событиях (а название главы всегда является и подписью к миниатюре), – даже эти главы иллюстрируются сценами воинских столкновений или осады без всяких намеков на икону.
Выполненное Симеоном сведение глав поставило перед иллюстраторами симео-новской редакции XVII в. задачу адаптации родионовских циклов, рассчитанных на большее количество глав. Результатом явилось исчезновение дополнительных миниатюр, что особенно заметно в истории явления Богоматери Юрышу, где из трех глав остается одна. Это сцена беседы Богоматери и св. Николая в лесу. Интересно, что, несмотря на исчезновение других «лесных»
миниатюр мотив леса в сцене беседы по сравнению с XVII в. существенно развит. Художник явно пытался показать, как лес преображается в присутствии Богоматери, как благодать распространяется и на то бревно, на котором она сидит: оно пускает побеги райских растений. Бревно, которое после рассказа Юрыша стало реликвией, из которого был сделан крест для часовни, художников XVII в. специально не интересовало. Пожалуй, это единственный случай введения дополнительного содержания в миниатюры «Книги» в XVIII в.
Сокращение изобразительного ряда коснулось и чудес, в частности чуда о болезни и видении инока Игнатия, которое раньше делилось на две части и в Уварова 804 проиллюстрировано двумя миниатюрами, очень подробными и насыщенными действием и текстами. В рукописях XVIII в. этому чуду посвящена одна миниатюра, и она совершенно формальна, ничем не отличается от других сцен исцеления.
Сцены чудес в рукописях XVIII в. остались едва ли не единственными, где изображается моление иконе. Но даже в них количество предстоящих сведено до минимума: как правило, присутствует только сам исцеленный без каких бы то ни было свидетелей чуда. Повторение деталей, клиширование фигур из миниатюры в миниатюру придает этим сценам формальный характер. Уже не все чудеса иллюстрируются, некоторые следуют друг за другом без разделяющих их миниатюр. Циклы чудес, как будто сохраняющие свое место в изобразительном ряде рукописи, на деле утрачивают то значение, которое придавалось им в XVII в.
Итак, все характерные признаки «акафистной» редакции – сцены поклонения иконе, акцентация ритма изобразительных циклов, чередование «более» и «менее» сюжетных рядов миниатюр, членение значимых глав на части и иллюстрирование каждой части главы, – все эти моменты исчезают в миниатюрах. Смысл «Книги» как прославления Богоматери, построенный по типу Акафиста, для переписчика XVIII в. теряется, и именно это стало причиной существенного упрощения изобразительного ряда второй редакции.
В XVII в. мы видим одинаковую направленность текста и миниатюр, что позволяет говорить о «Книге» как едином целом. Пе- ред нами сознательное воплощение в тексте и в миниатюре идеи акафистного прославления Богоматери, стремление к созданию универсального памятника, посвященного иконе. Рукописи XVIII в. свидетельствуют об утрате традиции и одновременном стремлении ее сохранить, когда точно копируется текст, но остается непонятой значительная часть его содержания и, вследствие этого, содержания миниатюр. Создатели рукописей стараются перенести их с оригиналов в силу уважения к традиции, но сохраняют за ними лишь формальное место.
Список сокращений
Барсова 905 – «Книга об иконе Тихвинской», ГИМ, собрание Барсова № 905, XVIII в.
Буслаева 731 – «Книга об иконе Тихвинской», РНБ, собрание Буслаева № 731; 1747 г.
Егорова 885 – Цикл явлений иконы из «Сказания о Тихвинской иконе Богоматери», РГБ, фонд 98 (Егорова) № 885, XVII в.
Музейское 739 – «Книга об иконе Тихвинской», ГИМ, Музейское собрание № 739
Титова 2053 – «Книга об иконе Тихвинской», РНБ, собрание Титова № 2053; вторая половина XVIII в.
Тихомирова 26 – «Книга об иконе Тихвинской», ГПНТБ СО РАН, фонд Тихомирова № 26, XVIII–XIV вв.
Уварова 804 – «Книга об иконе Тихвинской», ГИМ, собрание Уварова № 804, XVII в.
Щукина 449 – «Книга об иконе Тихвинской», ГИМ, собрание Щукина № 449, XVIII в.
Материал поступил в редколлегию 28.09.2009
MINIATURES FROM MANUSCRIPTS «BOOK OF THE TIKHVIN ICON» OF XVII–XVIII CENTURIES AND THE ACATHISTUS TRADITION