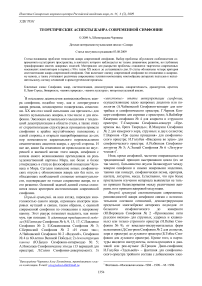Теоретические аспекты жанра современной симфонии
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме типологии жанра современной симфонии. Выбор проблемы обусловлен особенностями современного культурного пространства, в контексте которого наблюдается не только динамичное развитие, но глубинные трансформации многих жанровых моделей. Материалом для раскрытия проблемы становится творчество современных московских композиторов в период с 90-х годов XX века и до сегодняшнего дня. В статье обозначены четыре критерия систематизации жанра современной симфонии. Они включают оценку современной симфонии по отношению к жанровому канону, а также учитывают различные современные техники композиции, многообразие авторских подходов к исполнительскому составу сочинений и драматургические процессы.
Симфония, жанр, систематизация, деконструкция канона, сонористичность, драматургия, архетип, к.леви-стросс, бинарность, "память природы", "память культуры", интертекстуальный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/148100173
IDR: 148100173 | УДК: 78.01
Текст научной статьи Теоретические аспекты жанра современной симфонии
В последние десятилетия жизнеспособность жанра симфонии, подобно тому, как и литературного жанра романа, неоднократно подвергалась сомнениям. XX век стал зоной испытания «на прочность» для многих музыкальных жанров, в том числе и для симфонии. Эволюция музыкального мышления с тенденцией децентрализации в области стиля, а также отказ от стереотипизации структурных принципов привели симфонию к крайне неустойчивому положению, с одной стороны, и открыли неапробированные до сих пор возможности кардинального переосмысления семантических акцентов жанра, с другой стороны. И все же, какие бы изменения не происходили во внутренней и внешней жизни этого жанра, симфония с начала своего возникновения претендовала на роль художественной картины Мира, все более и более утверждаясь в статусе философской концепции Человека и Мира. Сегодня появление новых симфонических опусов с обозначением жанра или без него, но обладающих необходимой степенью концептуальности, подтверждает не только сохранение жанра, но и его развитие. Основной задачей данной статьи становится поиск критериев систематизации современной симфонии.
Первый критерий, на наш взгляд, порожден мно-голикостью самого жанра, огромным спектром жанровых мутаций и связан, таким образом, с оценкой современной симфонии по отношению к жанровому канону. Этот ракурс позволяет выделить, как минимум, три позиции: 1) адаптация традиционной модели (М.Гагнидзе Симфонии № 6, 9, 13, 17; С.Павленко Симфония № 2; Е.Кожевникова Симфония № 3; С.Беринский Симфония № 2 «И стало так»; А.Чайковский Симфония № 2 «Водолей», Симфония № 4 (к 60-летию Великой Победы); 2) деконструкция канона (Ю.Буцко Симфония-интермеццо № 5; А.Николаев Симфонические этюды (13 вариаций для оркестра); Л.Солин Симфония-дивертисмент); 3)
«микстовые» опыты интерпретации симфонии, осуществляющие идею жанровых диалогов или полилогов (А.Чайковский Симфония-концерт для контрабаса и симфонического оркестра; Г.Чернов Концерт-симфония для скрипки с оркестром; А.Вайнберг Камерная симфония № 4 для кларнета и струнного оркестра; Т.Смирнова Симфония-концерт «Прекрасны вы, брега Тавриды»; И.Манукян Симфония № 2 для камерного хора, струнных и двух солистов; Г.Воронов «Три сцены прощания» для симфонического оркестра; И.Голубев «Введение во храм» для симфонического оркестра; А.Рыбников Симфония-литургия № 5; А.Эшпай Симфония № 6 «Литурги-ческая»)1.
Итак, кроме симфоний, частично опирающихся на традиционный принцип выстраивания цикла (их не так много), большинство опусов балансируют между жанром симфонии и иными жанровыми моделями, такими как концерт, симфоническая поэма, оратория, кантата, литургия, месса. Естественно, что при более пристальном изучении материала выявляется не только принцип балансирования между различными жанрами, но и принцип жанровой модуляции.
Второй критерий систематизации современных разновидностей жанра симфонии связан с исполнительским составом сочинений, демонстрирующим предельное многообразие авторских подходов: от большого симфонического до камерного (Ю.Воронцов Симфония № 2 «Приношение пяти русским иконам» для струнных, ударных и клавишных) или только струнного оркестра (Н.Пейко Симфония № 9), от вокально-инструментальных форм исполнения (Д.Сми-рнов Симфония № 2 для солистов, хора и оркестра) до духового оркестра (Б.Тобис Симфония для духового оркестра). Кроме того, в партитуры вводятся инструменты, использующиеся в джазовой или рок-музыке (Б.Гроцюк Джаз-симфония; И.Голубев «Эдельвейс» – фантазия для симфонического оркестра тройного состава с добавлением элек-
трогитары. Несмотря на жанровое обозначение – фантазия, сам автор относит сочинение к жанру симфонии). В контексте современной симфонии происходит адаптация и этнического пласта (А.Курченко Симфония № 7 «Русская быль» для солиста, смешанного хора и большого оркестра русских народных инструментов; В.Пожидаев Концертная симфония № 2 по мотивам повести Е.Носова «Усвятские шлемо-носцы» для солистов (народные голоса) и оркестра русских народных инструментов). Таким образом, в пределах современной симфонии возникают межродовые взаимодействия2.
Третий критерий связан с систематизацией по техникам композиции, используемым в звуковом пространстве современной симфонической музыки. Разумеется, композиторы апеллируют ко всем формам и системам звукоорганизации – от крайне традиционных до авангардных и постмодернистских, выработанных в сфере музыкального опыта. Однако внутри индивидуальных стилей можно выделить приоритеты в отношении используемых техник. Так, сонористическая техника композиции в сочетании с элементами полистилистики доминирует в последних симфониях Юрия Воронцова (№ 3 «ZERO», № 4, № 5), сонористика в союзе с алеаторикой всегда активно задействована в симфонических сочинениях Мераба Гагнидзе (Симфонии № 45 – 51). В последнем симфоническом сочинении Виктора Екимовского «Аленький цветочек», – композитора, чьи творческие интересы апробировали, пожалуй, все известные способы звукового «конструирования», используются принципы не только сонористической, но и спектральной техники. Комментируя технику сочинения «Симфонических танцев» для фортепиано и оркестра, В.Екимовский придумывает свой собственный термин «репетитивный минимализм высшего порядка», обозначающий, что структурной основой сочинения становится не минимальный паттерн, а сложносоставная единица (остинатный блок), трижды разбиваемый свободными интермедиями, но звучащий в сочинении 50 раз.
Четвертый критерий систематизации современных симфоний освобождается от внешних формальных параметров в пользу семантикодраматургических проблем и процессов. Именно этот критерий требует особой исследовательской работы, направленной на поиски универсальных драматургических моделей. Поскольку в современном музыкальном искусстве как продукте постмодернистской (а может быть уже пост-постмодернистской) культуры предельно актуализированы интенции бессознательного, постольку сам исследовательский процесс осуществим только при учете глубинных «кодов», издревле укорененных в подсознании матричных структур. Ракурс, обозначенный в четвертом критерии систематизации современных симфоний, на наш взгляд, расслаивается, обнаруживая ряд особых позиций, требующих аргументации и комментариев.
Первая позиция, обусловленная вниманием к упомянутым глубинным структурам подсознания, содержит в своем контексте актуализацию двух видов памяти, генетически укорененных в структуре человеческой личности, которые в антропологии К.Леви-Стросса обосновываются бинарностью и амбивалентностью человека как существа природного (биологического), с одной стороны, и социального (культурного) – с другой3.
Природная память, будучи обусловлена биологическими матричными структурами, присущими всем людям, содержит протофеномены человеческой психики (согласно Платону, эйдосы – чувственные оболочки логоса). Второй же вид памяти санкционирован условиями социума (этноса, религиозных систем, культурных традиций). Здесь актуализируются те константы человеческой личности, которые имеют скорее характер морально-этический (оппозиции от «чужое – свое» до «божественное – греховное»). Проекция этого вида памяти в художественной сфере приобретает особый модус, который можно обозначить как «память культуры».
Оба вида памяти сосуществуют, комплементарно дополняя друг друга, в едином пространстве ментальной системы композитора. Приоритетность того или иного вида памяти, особая мера в их балансе дает возможность ощутить те предпосылки композиторской интуиции, которые порождают смысловой вектор сочинения.
Вторая позиция связана с выбором той методологии исследования, которая, учитывая необходимость обнаружения глубинных структур, позволит осуществлять дешифровку музыкального текста4. На наш взгляд, интертекстуальный анализ текста дает возможность выйти в сущностную основу современной музыки, идущей под знаком морфологической символики, где хаос становится способом обретения новых устойчивых параметров5. Кроме того, интертекстуальные приемы работы с текстом обнаруживают способность улавливать архетипические смыслы как содержание глубинных бессознательных структур, которые заключены в памяти. Это предрассудочный параметр, включающий в себя огромные слои материала КУЛЬТУРЫ. Подчеркнем, что интертекстуальная дешифровка любого материала, всегда учитывающая фактор симультанного, одномоментного восприятия, ни в коем случае не является конечной инстанцией в дешифровке текста, не претендует на абсолютность в постижении смыслообразования. Однако высшей целью интертекстуального анализа становится открытие нового смыслового пространства произведения, обнаружение глубинных связей с различными пластами культуры, где присутствуют архетипические модели многих исторических типов мышления6.
Третья позиция сопряжена с потребностью иного, обновленного вектора исследовательской работы, который не может не учитывать глобальной онтоло-гизированности современного музыкального искусства. Как пишет Т.Черед-ниченко: «Онтологическое чувствование музыки возобладало над индивидуаль-но-психологи-ческим, и оказалось, что последнее имело блестящую, но краткую историю: всего-то около двух столетий»7.
Нам представляется, что особые качества современных сонористических композиций – предчувствие смысла и в то же время ускользание его конечной ясности, тончайшее просвечивание контуров некой структуры и мгновенное растворение их в непостижимой тайне текста – порождают новый модус проникновения в музыкальное пространство сочинения: не через рациональный акт, а посредством иррацио- нального предпонимания. Трудно не согласиться с Т.Чередниченко, которая пишет: «Чувство предпо-нимания должно было целиком переместиться внутрь самой музыки и объективироваться там в качестве не требующей понимания, но переполненной внятностью, вовлеченности в бытие»8.
-
4 Раку М. «Пиковая дама» братьев Чайковских: опыт интертекстуального анализа // Музыкальная академия. – 1999.
– № 2. – С.9 – 21.
-
5 Ивашкин А. Шостакович и Шнитке. К проблеме большой симфонии // Музыкальная академия. – 1995. – №1. – С.1 – 8.
-
6 Дзюн Тиба. Введение в интертекстуальный анализ музыки. – М.: 2002.
-
7 Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы.
Портреты. Случаи. – М.: 2002. – С.472.
-
8Там же. – С.475.
THEORETICAL ASPECTS OF CONTEMPORARY SYMPHONY GENRE
Список литературы Теоретические аспекты жанра современной симфонии
- Фестиваль «Московская осень» 1988 -1998. -М.: 1998.
- Ромащук И. В предчувствии нового… Симфонические собрания «Московской осени» -2005 и не только//Музыкальная академия. -2006. -№ 1. -С.45 -55.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. -М.: 1985.
- Раку М. «Пиковая дама» братьев Чайковских: опыт интертекстуального анализа//Музыкальная академия. -1999. -№ 2. -С.9 -21.
- 5Ивашкин А. Шостакович и Шнитке. К проблеме большой симфонии//Музыкальная академия. -1995. -№1. -С.1 -8.
- Дзюн Тиба. Введение в интертекстуальный анализ музыки. -М.: 2002.
- 7Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. -М.: 2002. -С.472. Там же. -С.475.