Теоретические основы отражения социокультурной реальности в искусстве Лианозовской школы
Автор: Ремизов В.А., Сидоров А.Е.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теоретическим основам отражения социокультурной реальности в искусстве Лианозовской школы. Рассматриваются ключевые аспекты, связанные с формированием и трансформацией социокультурной реальности в советской действительности 1950–1960‑х годов, а также – художественная практика Лианозовской группы. Анализируется влияние социокультурных условий на развитие неофициального искусства в СССР, особое внимание уделено критическому подходу художников и поэтов, а также их стремлению к созданию альтернативной реальности через абстракцию, иронию и символизм. В статье выделяются ключевые принципы художественного отражения, рассматривается роль искусства в трансформации социокультурных норм и ценностей. Целью статьи является анализ социокультурной реальности через призму художественного отражения Лианозовской школы и исследование ее вклада в культурное сопротивление советской идеологии.
Социокультурная реальность, Лианозовская школа, художественное отражение, искусство СССР, неофициальное искусство, художественный образ, нонконформизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144163532
IDR: 144163532 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-91-98
Текст научной статьи Теоретические основы отражения социокультурной реальности в искусстве Лианозовской школы
Социокультурная реальность представляет собой многослойную и динамичную систему взаимодействий между социальными и культурными процессами, которые формируют и детерминируют развитие общества. Она охватывает совокупность социальных институтов, ценностей, норм, символов, культурных кодов и ментальных структур, создающих основу для коллективной идентичности и социальной адаптации. Данная концепция также включает в себя механизмы трансформации общественного сознания, проявляющиеся в изменении традиций, социальных практик и культурных форм выражения.
Э. А. Орлова определяет социокультурную реальность как многомерное явление, в котором сочетаются статичные элементы (традиционные практики, культурные архетипы) и динамичные процессы (инновационные дискурсы, влияние глобализационных тенденций) [6, с. 71]. В рамках этого понимания социокультурная реальность рассматривается как структурно-функциональная система, в которой определенные культурные паттерны передаются от поколения к поколению, но при этом подвержены трансформациям в ответ на внутренние и внешние вызовы.
Социокультурная реальность формируется под воздействием материальных и нематериальных факторов, включая экономическую инфраструктуру, технологическое развитие, политическую организацию и информационные потоки. Она характеризуется множественностью дискурсивных практик, обеспечивающих связь между исторической памятью, социальной идентичностью и культурными инновациями. Исследование социокультурной реальности позволяет выявить закономерности социальной
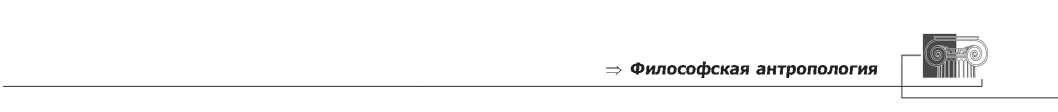
эволюции, механизмы культурной адаптации и способы трансформации общественных структур в условиях изменяющегося мира. Социокультурная реальность, отражая сложные взаимодействия различных факторов, образует контекст, в котором возникает и развивается определенная культурная форма. В частности, Лианозовская школа, ставшая важным культурным явлением середины XX века, представляет собой яркий пример того, как социокультурные и исторические условия влияли на развитие неофициального искусства в СССР.
По определению Большой российской энциклопедии, Лианозовская школа существовала с 1958 по 1965 год. «Это объединение сформировалось вокруг О. Я. Рабина и его учителя Е. Л. Кропивницкого; среди участников: поэты В. Н. Некрасов, Г. В. Сапгир, Я. Сату-новский, И. С. Холин; художники Н. Е. Вечтомов, Л. Е. Кропивницкий, его сестра В. Е. Кро-пивницкая, Л. А. Мастеркова, В. Н. Немухин, О. А. Потапова. Собрания Лианозовской группы, художественные выставки и поэтические чтения проходили в подмосковном поселке Лианозово (ныне в черте Москвы)» [5].
«Программа Лианозовской группы предполагала достоверное воссоздание современной действительности; отвергались идеализация и назидательность, присущие искусству социалистического реализма. Основным предметом художественного осмысления стал быт городских окраин, поэтому творчество Лианозовской группы нередко называли «барачным искусством». Для поэтов характерно пародирование языка советской пропаганды, обращение к разговорной речи. Художники-»лианозовцы» опирались на традиции различных направлений авангардизма (абстракционизм, кубизм, экспрессионизм, примитивизм)» [5].
Художественное отражение, в свою очередь, представляет собой процесс символической репрезентации действительности в искусстве, в котором объективные и субъективные аспекты реальности осмысливаются, трансформируются и интерпретируются через призму эстетических и экспрессивных форм. Оно позволяет не только фиксировать внешние прояв- ления жизни, но и углубляться в ее сущностные смыслы, выявляя многослойные взаимосвязи между явлениями и их интерпретациями в различных культурных контекстах.
В монографии О. А. Кривцуна особо подчеркивается, что художественное отражение связано с категорией художественного образа, который воплощает как чувственную, так и духовную стороны бытия. В процессе отражения «искусство превращает „вещество жизни“ в „вещество формы“» – упорядочивает, структурирует, придает смысл и целостность разрозненным фактам и явлениям, следовательно, отражение – это не пассивное воспроизведение, а активное творческое осмысление и реконструкция мира средствами художественного языка и формы [10].
М. С. Каган в своих работах обращает внимание на то, что художественное отражение – это «субъективно-высшее отражение объективной действительности», в котором отражается не только внешний вид, но и социальнокультурный и психологический контекст. Искусство, по Кагану, активно формирует мировосприятие, трансформируя реальность через призму творческого сознания художника и культурных кодов [7].
Рудольф Арнхейм, американский писатель, эстетик, теоретик изобразительного искусства, писал, что восприятие искусства – это не пассивное созерцание, а процесс анализа формы, композиции, цвета и пространства, в ходе которого зритель активно реконструирует смысл произведения, участвуя в творческом акте отражения [1].
Как отмечает Арнхейм, форма – это носитель содержания в искусстве; форма сама по себе выражает мысль и эмоцию. Художественное отражение в искусстве происходит через формообразующую деятельность, которая преобразует хаос чувственного восприятия в осмысленную структуру. Искусство, по Ар-нхейму, дает «порядок для хаоса» внешнего мира, позволяя видеть его с новой, глубинной перспективы [1].
М. М. Бахтин рассматривает художественное отражение как форму диалогического вза- имодействия между автором, текстом и реципиентом, где смысл произведения рождается в процессе межсубъектного осмысления [2, с. 223]. Художественное отражение не является простой репродукцией реальности, а представляет собой ее символическое осмысление, позволяя зрителю или читателю проникать в глубинные слои восприятия и интерпретации.
В то же время художественный образ является системой знаков и символов, с помощью которых осуществляется репрезентация идей и смыслов в искусстве. Он может быть представлен в различных формах – литературной, изобразительной, музыкальной, театральной, кинематографической – и функционирует как ключевой механизм смыслопорождения в культуре.
И. Б. Роднянская писала, что «в онтологическом аспекте художественный образ есть факт идеального бытия, своего рода схематический объект, надстроенный над своим материальным субстратом (ибо мрамор – не плоть, которая им изображается, двухмерная плоскость картины – не трехмерное пространство, явленное на ней, рассказ о событии – не само событие и т. п.)» [11, с. 220].
Как отмечает М. М. Бахтин, художественный образ – это не просто визуальный или текстуальный элемент, а многослойная структура, несущая в себе эстетические, культурные и философские значения [2]. Визуальная поэзия Лианозовской школы демонстрирует уникальную форму художественного образа, в которой текстовые и изобразительные элементы объединяются, создавая многогранную смысловую систему [11, с. 32].
Художественный образ может быть реалистическим, аллегорическим, символическим или абстрактным, его интерпретация зависит от культурного контекста и индивидуального опыта восприятия. Он выполняет важные функции: передает эмоциональное состояние автора, формирует эстетическое переживание у зрителя или читателя, служит инструментом познания и осмысления окружающего мира. В процессе художественной коммуникации образ приобретает множественные значения, изменяющиеся в зависимости от времени, про- странства и социальных условий, что делает его живым и динамичным элементом культуры. Например, в поэзии Евгения Кропивницкого, одного из основателей Лианозовской школы, повседневные предметы выполняют многозначную функцию: они служат элементами бытового описания, а также становятся символами памяти, социальной действительности и экзистенциальных размышлений. Эти образы позволяют глубже понять социокультурную реальность, отраженную в его творчестве. Типичные жизненные ситуации в поэзии Кро-пивницкого становятся знаковыми моделями социокультурной реальности позднего СССР. Художественное обобщение обыденного – ключ к поэтике Лианозовской школы. Через такие ситуации поэт демонстрирует экзистенциальную усталость, невозможность действия, распад языка и общения, внутреннюю опустошенность человека, живущего в «маленькой» и унылой реальности.
В поэзии Игоря Холина, особенно в его «барачном» цикле, жизненные ситуации становятся художественными образами, отражающими социокультурную реальность позднесоветской эпохи. Холин, как и его учитель Евгений Кропивницкий, извлекал поэзию из самых антипоэтичных вещей: из бедного барачного быта, из коммунальных перебранок, из деталей и фрагментов земного бытия. Например, барак в поэзии Холина предстает как замкнутая система, микрокосм, в котором сосредоточена вся жизнь его обитателей. Это пространство, лишенное романтики и идеализации, наполнено бытовыми сценами, отражающими повседневную реальность:
«Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор. Восемнадцать квартир.
На стенке лозунг: МИРУ – МИР!» [16].
Здесь барак становится символом ограниченности, изоляции и монотонности жизни, где даже лозунги теряют свое идеологическое значение и становятся частью обыденного пейзажа.
Через образы барака, бытовых сцен, отчуждения и безысходности он создает мозаичную картину жизни, лишенной идеализации и романтики. Его стихи, наполненные иронией и гротеском, становятся мощным средством критики и осмысления социальной действительности своего времени.
Еще одним примером служат работы Владимира Немухина, он развивал собственный вариант абстракции. В его творчестве повседневные предметы, особенно игральные карты, превращаются в символы судьбы, случая и человеческой участи. С 1965 году он активно использовал мотив карточной колоды, варьируя его в различных техниках. В произведениях Немухина, например, в картине «Неоконченная партия» (1964), предметы повседневности, в случае Немухина – чаще всего карты, утрачивают свою практическую значимость, они предстают метафорами жизненных обстоятельств; с помощью карт автор акцентирует внимание на непредсказуемости и случайности человеческого существования.
Оскар Рабин, в свою очередь, разработал уникальный изобразительный язык; он также использовал в своем творчестве элементы повседневности и предметы быта, но расставлял более четкие и читаемые акценты. В его творчестве символами советской обыденности становятся образы бараков, бутылок водки, икон и селедки. Например, его картины «Помойка № 8» (1958) и «Водка Столичная» (1961) представляют удручающие сцены с искаженными строениями и предметами обихода советского человека, подчеркивая гнетущую и враждебную атмосферу окружающего мира. Художник использовал эти образы для выражения протеста против официального искусства и демонстрации неприглядной стороны советской реальности.
Стоит обратить внимание и на необычную образность в искусстве Лидии Мастерковой, которая развивала абстрактное искусство, создавая коллажи из антикварных тканей, кружев и парчи. Ее работы, например, «Композиция» (1964), объединяют экспрессивную непосредственность, геометрию и цвет, формируя обра- зы, наполненные духовным смыслом и личными воспоминаниями. Ее стиль характеризуется динамизмом – с использованием выразительных мазков и геометрических форм. В ее произведениях часто заметны элементы психологизма. В них формы и цвета создают особую атмосферу, приглашая зрителя к самоанализу.
Понимание концепций социокультурной реальности, художественного отражения и художественного образа имеет первостепенное значение для анализа художественных процессов и культурных явлений. Социокультурная реальность определяет контекст, в котором формируются художественные практики, оказывая влияние на их содержание формы и механизмы восприятия. В то же время художественное отражение формирует способы интерпретации общественных изменений в искусстве. В свою очередь, анализ художественного образа позволяет исследовать механизмы конструирования смыслов и идентичностей в произведениях искусства.
Определение и систематизация этих понятий формируют методологическую основу для исследования эволюции культуры и художественных традиций.
Ключевым моментом является понимание сущности произведения искусства. С ракурса эпистемологического подхода М. Фуко, картина должна восприниматься как культурный артефакт цивилизации, нельзя забывать о том, что «срез визуального опыта во все эпохи, для каждого человека осуществляется в соответствии с приобретенными обычаями, который поддается анализу только после его интерпретации» [15, с. 68]. Хотя Фуко не выделял визуальный анализ как отдельную дисциплину, он воспринимал его как часть более широкого метода, однако в настоящее время имеет смысл рассматривать визуальный анализ как самостоятельную область, которая создает уникальную интерпретационную систему, столь же значимую, как и другие дисциплины. Визуальная среда, возникающая в каждый исторический момент, характеризуется своей автономией, но при этом она тесно связана с другими, современными ей, культурными формами [15].
L
Важно рассмотреть ключевой вопрос: что делает живопись?
П. Франкастель, французский историк и искусствовед, говорил о том, что «живопись раскрывает аспекты политической, социальной и интеллектуальной жизни не потому, что она дает точные сведения о мире художников, а потому что, используя разнообразные знаковые системы, она выражает развитие идей на плоскости двухмерного пространства» [14]. Вопрос о взаимосвязи визуальных образов и культурных образов продолжал развивать А. Варбург, немецкий историк искусства и культуролог, который утверждал, что «искусство не является просто дисциплиной, а представляет собой ресурс для понимания культурной традиции и способов передачи человеческого опыта через изображения» [3, с. 48]. Этот тезис важен для понимания культуры как системы, которая требует обоснования через единую культурноисторическую науку об образах. Следовательно, искусство можно рассматривать как особый язык, который выражает присутствие через видимые образы; оно становится способом общения, раскрывая сущность образов и характеров через восприятие зрителя, который, формируя мысли, интерпретирует те речи, которые могли бы произнести герои картины.
Художник и теоретик изобразительного искусства В. Кандинский, писал, что «живопись – это искусство, а искусство вообще не есть бесцельное создание вещей, растекающихся в пустоте, но есть сила и власть, полная целей, и должно служить развитию и утончению человеческой души, движению треугольника. Оно есть язык, которым говорят в только ему одному доступной и свойственной форме о душе, о вещах, которые для души – хлеб насущный и который она только и может получить в этом виде» [8, с. 148]. По мнению В. Кандинского, цель живописи, а именно, картины, – «облечь внутреннее впечатление во внешнее выражение – живописную форму» [8]. Искусство, особенно живопись, затрагивает самые глубинные чувства. Образ может быть обманчиво пустым, например, подобно ночи на полотне, кажущейся нематериальной, но полной скрытых симво- лов и смыслов. Эта пустота поглощает личное восприятие, освобождая место для размышлений и самоанализа.
В этом контексте мысль, которая возникает у зрителя, всегда опирается на конкретный видимый объект, который художник изображает на холсте. Когда художник стоит перед пустым холстом, он уже мысленно представляет будущее произведение, следуя определенным правилам и законам перспективы, что делает его создание частью заранее определенного процесса.
В контексте культурологии искусство не просто отражает действительность, но и активно ее трансформирует. Искусство становится важным инструментом для формирования новых представлений о реальности, которые оказывают влияние на социокультурные процессы. В частности, в работе Флиера подчеркивается, что культура – как совокупность символических форм и норм – вбирает в себя не только элементы общественного порядка, но и системы художественных образов, которые могут радикально изменить общественные ориентиры и идеологию [12].
Также важной функцией художественного отражения является создание новых форм социокультурной коммуникации. Через художественные произведения устанавливаются новые связи между индивидом и обществом. Эти произведения становятся каналом для передачи ценностей, идей и критических размышлений о действительности. В этом контексте произведения Лианозовской школы, например, служат своеобразными символическими «картами» для понимания социокультурной реальности, представляя различные культурные коды, которые зритель должен расшифровать для полного понимания смысла.
В своих работах А. Я. Флиер, советский и российский культуролог, утверждает, что искусство является одной из отраслей человеческой деятельности, наряду с такими сферами, как машиностроение или сельское хозяйство. Искусство отличается своей технологией и производимым продуктом. Произведения искусства, включая литературу, музыку, живопись и прочее, не могут быть спутаны с продуктами других отраслей деятельности, поскольку они обладают уникальными характеристиками, такими как эстетическая ценность и эмоциональное воздействие [13]. Важным аспектом, рассматриваемым Флиером, является то, что искусство всегда сталкивается с вопросом социальной приемлемости, особенно это ощущается с началом эпохи модернизма и авангарда. Искусство постоянно взаимодействует с культурной нормой, от нее зависит его оценка и восприятие в обществе.
Рассматривая противопоставление «при-кровенности – откровенности», мы можем увидеть такой же контраст в системе социокультурных координат, который проявляется в былом и современном, а также развитие их соотношений. Все это сводится к тому, что в течение долгого времени быт представлялся как внутренняя составляющая бытия, где человеческое самовыражение, будь то общественное, государственно-политическое, художественное или светское, предстает перед нами неприметной и непривлекательной формой.
Ныне отражение быта через художественные образы становится достаточно привычным. Разные формы и виды художественной репрезентативности способны обратить внимание не только на профессиональные виды деятельности, не только на то, что «откровенно», но и на бытовую, «сокровенную», сферу жизни. Отражение повседневности через образы в искусстве помогает проследить ми-кродинамические процессы в обществе. Повседневная среда, наряду с самим художественным произведением, все больше превращается в подлинную форму бытия искусства.
В статье Г. С. Кнабе «Диалектика повседневности», подчеркивается, что повседневная жизнь постепенно утрачивает свою второстепенную роль и становится неотъемлемой частью культурного самовыражения. Кнабе пишет: «Повседневная жизнь и ее инвентарь берут на себя функцию эмоционального общественного самовыражения, которая так долго была монополией идеологии, слова, высокого искусства» [9]. Это отражает идею Лианозовской школы в том, что повседневные элементы становятся культурными знаками и объектами для художественного выражения. Например, художники Лианозовской школы использовали бытовые предметы и их символическое значение как средство для передачи глубинных социальных и политических смыслов, что становится возможным именно в эпоху, когда «повседневность» начинает приобретать культурную ценность. Автор утверждает, что «предметы быта обладают знаковым содержанием и поэтому характеризуют социокультурную принадлежность человека» [9]. Этот тезис перекликается с практикой лианозовцев, которые использовали бытовые символы и знаки для создания сложных образов, требующих от зрителя активной интерпретации. В их произведениях, например, в работах Оскара Рабина, часто применяются абстракции и ироничные символы, которые, с одной стороны, отсылают к конкретной социокультурной реальности, а с другой – деконструируют ее, ставя под сомнение официальные культурные стандарты.
Кнабе выделяет важный процесс диалектики культуры и повседневности, заявляя, что «повседневность, растворенная в жизни, становится ее важнейшей частью, теряя свое отличие от высоких форм культуры» [9, с. 47]. Это перекликается с работами художников Лианозовской школы, где художники стремились показать, как повседневная жизнь и ее символы взаимодействуют с официальной культурой.
В данной статье рассмотрена роль искусства Лианозовской школы как активного участника в переосмыслении и трансформации социокультурной реальности. Художники этой школы не ограничивались репрезентацией действительности, как это было характерно для социалистического реализма. Вместо этого они использовали художественное отражение как инструмент для создания альтернативных, многозначных образов, которые предлагали зрителю новые способы восприятия социальной и политической реальности.


