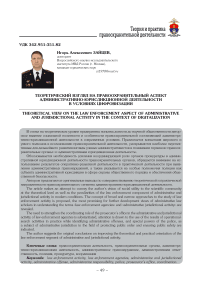Теоретический взгляд на правоохранительный аспект административно-юрисдикционной деятельности в условиях цифровизации
Автор: Зайцев И.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на теоретическом уровне предпринята попытка донести до научной общественности авторское видение социальной полезности и особенности правоохранительной составляющей административно-юрисдикционной деятельности в современных условиях. Предлагается концепция широкого и узкого подходов к исследованию правоохранительной деятельности, раскрываются наиболее перспективные для дальнейшего развития взгляды ученых-административистов в понимании терминов «правоохранительные органы» и «административная юрисдикционная деятельность». Обосновывается необходимость усиления координирующей роли органов прокуратуры в административной юрисдикционной деятельности правоохранительных органов, обращается внимание на использование результатов оперативно-разыскной деятельности в практической деятельности при выявлении административных правонарушений, а также указывается на особые полномочия полиции как субъекта административной юрисдикции в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Автором предлагаются оригинальные выводы по совершенствованию теоретической и практической направленности правоохранительного сегмента административно-юрисдикционной деятельности.
Правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, административно-юрисдикционная деятельность, административное правонарушение, административная ответственность, полиция, прокуратура, координация
Короткий адрес: https://sciup.org/140310200
IDR: 140310200 | УДК: 342.951:351.82
Текст научной статьи Теоретический взгляд на правоохранительный аспект административно-юрисдикционной деятельности в условиях цифровизации

Вестник Сибирского юридического института МВД России
Ц ифровизация, понимаемая автором как общемировой социальный, экономический и технологический процесс, предполагающий переход с аналогового на цифровой способ передачи информации, а в дальнейшем и на цифровые алгоритмы работы, позволяющие существенно повысить внутреннюю и внешнюю экономическую составляющую государства и в целом улучшить социальную инфраструктуру, упрощает способы взаимодействия государства с гражданским обществом и бизнесом [подр.: 4, с. 22-26].
Выступая в качестве стержневой основы развития экономики государства, современные технологий, с одной стороны, внедряются во все сферы общества, становясь неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, а с другой стороны, происходит рост их использования для совершения краж и мошенничества, а также иных противоправных деяний, связанных с неправомерным доступом к конфиденциальным сведениям.
Так, в 2024 г. в сеть Интернет попали более 710 млн (в 2,3 раза больше, чем в 2023 г.) записей о российских гражданах, до 40% выросло количество преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий1. При таких обстоятельствах всестороннее осмысление правоохранительной составляющей административно-юрисдикционной деятельности приобретает повышенную актуальность.
В качестве отправной точки, имеющей принципиальное значение для построения методологии исследования, попытаемся всесторонне рассмотреть значение терминов «правоохранительная деятельность» и «правоохранительные органы».
В философском понимании правоохранительная деятельность рассматривается как общее проявление взаимосвязи социальной и правовой действительности (политического курса) государства (в широком смысле), также она представляется в виде специфического метода «социального управления», которые в комплексе обеспечивают и поддерживают единство и целостность «социального общества путем установления в нем правопорядка, т.е. порядка, основанного на праве и опирающегося на силу и авторитет государства» (в узком смысле) [12, с. 10].
Если рассматривать правоохранительную деятельность как политический курс государства, то наиболее отчетливо это проявляется в документах стратегического планирования, например в Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных техно-логий2.
Развивая философский подход и интерпретируя взгляды ученых-административи-стов на правоохранительную деятельность, мы можем утверждать, что здесь имеют место достаточно дискуссионные утверждения. Так, Ю.В. Степаненко под правоохранительной деятельностью предлагает понимать «деятельность по охране правовых норм от нарушений» с выделением в качестве ее основного объекта правовых норм, а опосредованным объектом – «общественных отношений, в которых реализуются субъективные права и свободы человека и гражданина, исполняются юридические обязанности» [9, с. 71-72]. С предложенным суждением стоит согласиться только в части того, что правовые нормы выступают предметом нормокоординирующей деятельности.
Другие авторы правоохранительную деятельность сводят к сугубо полицейской деятельности, связанной с применением мер государственного принуждения при охране «важных для общества и государства объектов», относя к ним общественный порядок и общественную безопасность [1, с. 91].
Весьма полное представление об этом виде деятельности приводит А.М. Тарасов, указывая на ее обязательный характер для урегулирования общественных отношений, определяя ее как осуществляемую государственными органами и их должностными лицами, наделенными специальными полномочиями по охране прав, применяющими для этого меры государственного принуждения [11, с. 299-305].
Исследуя особенности государственного принуждения, стоит выделить доктринальные взгляды А.И. Каплунова, рассматривающего его как «метод воздействия ... для преодоления правовой аномалии и позволяющий … заставить … исполнять возложенные … юридические обязанности и соблюдать установленные законом запреты, а также обеспечить правопорядок, безопасность личности, общества и государства от потенциальных и реальных угроз» [6, с. 10].
Дополняя и развивая приведенные выше теоретические взгляды, мы приходим к выводу, что отличительной чертой правоохранительной деятельности в условиях цифровизации выступает ее несудебный характер юридической защиты по разрешению правового конфликта (правонарушения) и невозможность его решения никаким иным способом, кроме обращения за помощью к правоохранительным органам для восстановления социальной справедливости (нарушенных прав) с использованием для этого современных технологий [3, с. 10].
Несмотря на то, что термин «правоохранительные органы» используется в Конституции РФ1, в документах стратегического планирования и многих нормативных правовых актах федерального уровня2 и непосредственно в КоАП РФ3, его нормативное закрепление законодателем не предусмотрено.
Проблема отсутствия четкого и единого понимания термина «правоохранительные органы» и их системы на законодательном уровне, по мнению И.Н. Зубова, вызвана обыденностью и общим признанием, не требующим дополнительного пояснения. Как обобщающая категория его использование допустимо в отношении всех федеральных органов исполнительной власти, выполняющих возложенные на них государством обязанности по осуществлению правоохранительной деятельности [5, с. 21-27].
Наиболее отчетливо, на наш взгляд, правоохранительная составляющая государственного регулирования общественных отношений проявляется в административно-юрисдикционной деятельности, представляемой на доктринальном уровне (в узком понимании) как вид несудебной деятельности административно-публичных органов и их должностных лиц, применяющих (в пределах компетенции) принудительные меры правового воздействия (обеспечительные меры) к участникам административно-процессуальных правоотношений, не находящимся между собой в каком-либо подчинении, используя цифровые технологии для выявления, предупреждения, пресечения, возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях [2, с. 10].
Согласно анализу норм действующего статусного федерального законодательства приведенными выше полномочиями наделены должностные лица полиции4 и федеральных служб (ФСБ России5, ФТС России6
Вестник Сибирского юридического я^й®®®1®® института МВД России
и ФСО России1). Отсутствуют обязанности (задачи) « по выявлению административных правонарушений» у Росгвардии2, органов и учреждений УИС ФСИН России3, а также ФССП России4.
Акцентирование внимания на наличие обязанности (задачи) выявления правоохранительными органами административных правонарушений не случайно. Стремительные изменения, происходящие в цифровую эпоху, не всегда влекут за собой такие же изменения и в «правовом поле», регулирующем порядок выявления административных правонарушений.
В качестве убедительного примера выдвинутого тезиса выступают различные научные подходы к допустимости использования в качестве доказательств результатов (выводов) проводимых правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих выявить (установить) в деянии наличие признаков административного правонарушения.
Авторы, выступающие против такой позиции (И.С. Галичина, С.А. Малахов и Л.С. Комовкина), считают необходимым придерживаться строгих требований, закрепленных в Федеральном законе от «Об оперативно-розыскной деятельности»5, предписывающих проведение оперативно-розыскных мероприятий исключительно для выявления преступлений, не допуская «расширенное толкование действующих норм» [2, с. 80] и избегая возложения дополнительной нагрузки по выявлению административных правонарушений на должностных лиц оперативных подразделений правоохранительных органов, создающей в общем виде «благоприятные условия для злоупотребления полномочиями» [7, с. 60].
Несмотря на такой достаточно консервативный взгляд, большинство исследователей в научных публикациях, посвященных этой тематике, придерживаются противоположных взглядов. Наиболее распространена точка зрения авторов (И.Д. Мотрович, В.В. Семенчук, Е.А. Кулеш, А.М. Субботин, Н.А. Трусов), предлагающих в перспективе внести изменения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и «легализовать» проведение оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами для выявления не только преступлений, но и административных правонарушений, а полученные фактические данные рассматривать в качестве одного из поводов (основания) для возбуждения дела об административном правонарушении с последующим формированием доказательной базы, изобличающей виновность физического или юридического лица [8, с. 48-55; 10, 86-90].
Отчасти именно по такому пути сейчас идет судебная практика, обосновывая законность проведения ОРМ, необходимостью противодействия угрозам (государственной, военной, экономический, информационной или экологической) безопасности государства (пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), используя видеозапись, произведенную беспилотным летательным аппаратом, и протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия в качестве допустимых доказательств для привлечения к административной ответственности6.
Аналогичных примеров достаточно много, когда в ходе проведения правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий выявляются признаки административных правонарушений, особенно в сфере противодействия коррупции (ст. 19.28 КоАП
РФ)1. В таких случаях информация о результатах проведенного оперативно-розыскного мероприятия незамедлительно направляется прокурору «для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении с соблюдением установленного законодательством порядка рассекречивания»2.
В целом характеризуя современное влияние цифровизации на правоохранительный аспект административно-юрисдикционной деятельности, следует отметить общую тенденцию расширения сферы использования различных технических устройств аудио-, фото- и видеофиксации (далее – технических устройств) при выявлении и сборе доказательств по делам об административных правонарушениях, в частности камеры личного мобильного телефона для видеозаписи обстоятельств совершения административного правонарушения3.
Безусловно, сегодня лидирующую позицию использования технических устройств при возбуждении дела об административных правонарушениях занимает автоматическая фиксация административных правонарушений (ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ) в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ). Кроме того, приказом МВД России разрешено использование цифровой аппаратуры (носимых видеорегистраторов, видеокамер, фотоаппаратов с функцией видеозаписи) для установления события административного правонарушения и при оформлении различных процессуальных документов (протокола об административном правонарушении, о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, об изъятии вещей и документов) без участия понятых4. Относительно схожие положения содержатся и в приказе ФССП России, содержащем не только перечень технических устройств, но и порядок их использования при производстве по делам об административных правонарушениях5.
Непосредственный перевод в цифровую плоскость административно-юрисдикционной деятельности связан с принятием Федерального закона от 7 апреля 2025 г. N 59-ФЗ6, устанавливающего дистанционный способ возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях, с применением для этого цифровых технологий, передающих в режиме реального времени звук и изображение, заменяя участников производства по делам об административных правонарушениях их изображением на экране монитора.
Выделим особенности составления протокола об административном правонарушении (далее – протокола) с использованием системы видео-конференц-связи (далее – ВКС) и (или) веб-конференции, допустимого при наличии технических возможностей и с учетом объективных причин, не позволяющих очно присутствовать физическому лицу, в отношении которого возбуждается дело о таком правонарушении (ч. 1.1 ст. 28.2 КоАП РФ).
Вестник Сибирского юридического института МВД России
Наряду с этим на должностное лицо правоохранительных органов как субъекта административной юрисдикции, к предметной компетенции которого отнесены полномочия по составлению протокола, возлагаются дополнительные процессуальные и организационные обязанности по информированию лиц, участвующих при составлении протокола, о дате, времени и месте организации ВКС и (или) веб-конференции в строго установленный законом срок - « за десять дней », а также по установлению дистанционной связи со структурным подразделением территориального органа, использующего ВКС. В свою очередь, противоположная сторона ВКС обеспечивает явку и установление личности присутствующих (абз. 2, 3 ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 28.2 КоАП РФ).
Изменились и способы извещения участников производства по делам об административных правонарушениях (ст. 25.15 КоАП РФ). Кроме традиционного «бумажного» варианта направления писем и повесток с уведомлением о вручении возможно применение цифрового отправления извещения с помощью СМС-сообщения на номер мобильного телефона или на электронную почту (при наличии письменного заявления о согласии на такой способ получения информации).
Подготовка и направление копии протокола для ознакомления с применением системы ВКС достаточно подробно раскрыта в административно-деликтном законе и не вызывает беспокойства (ч. 5.1 ст. 28.2 КоАП РФ). Несколько иная ситуация складывается при использовании системы веб-конференции, не предусматривающей направление копии протокола для ознакомления, а также с подтверждением личности физического лица, привлекаемого к административной ответственности. Для установления личности предлагается использовать федеральную государственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор- мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и (или) государственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ч. 1.3 ст. 28.2 КоАП РФ).
Воспользоваться такими информационными системами могут только зарегистрированные в них граждане1, но нет никаких гарантий от технических сбоев и некорректной работы сетевого оборудования, когда участников веб-конференции «слышно, но не видно», что создает сомнения в правильности подтверждения личности физического лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении.
Кроме того, отсутствие обязанности по направлению копии протокола при использовании веб-конференции для ознакомления позволяет говорить о возможности избежать привлечения к административной ответственности, а с учетом парной конструкции отдельных норм, имеющих админи-стративно-преюдиционныйпризнак(например, ст. 7.27 КоАП РФ), и привлечения к уголовной ответственности. Отдельно отметим использование при подключении веб-конференции открытых каналов сети Интернет, разрешающих в перспективе любому «заинтересованному» физическому лицу, перейдя по предложенной ссылке, подключиться и стать ее участником, оказать давление на свидетелей, эксперта, используя полученную конфиденциальную информацию в противоправных целях.
Представляется, что применение системы веб-конференции в правоохранительных органах для возбуждения дел об административных правонарушениях допустимо только в исключительных случаях, когда нет иных возможностей, при четком соблюдении предусмотренных на ведомственном уровне инструкций по аналогии с регламентом организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных за-седаний1, или рекомендаций по организации судебных заседаний с использованием системы веб-конференции во Втором арбитражном апелляционном суде2.
Стремительное внедрение цифровых технологий несет прямые угрозы от их использования как для сбора персональных данных граждан, так и для пропаганды насилия, наркотических средств, национализма и другого вредоносного контента, требует консолидации усилий не только правоохранительных органов, но и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
На обеспечение надлежащего межведомственного взаимодействия и оперативности реагирования правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных деяний с использованием сети связи общего пользования и сети Интернет для совершения мошеннических действий (кибермошенничество) направлен Федеральный закон от 1 апреля 2025 г. N 41-ФЗ3, в котором определены порядок создания и структура государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (далее – государственная информационная система противодействия правонарушениям). По замыслу разработчиков данного закона с помощью внедрения государственной информационной системы противодействия правонарушениям будет осуществляться автоматический мониторинг распространения в сети Интернет информации, направленной на введение в заблуждение граждан, с последующим ограничением доступа (блокированием) к ней и уведомлением правоохранительных органов о потенциальных преступлениях4. Главным оператором, обеспечивающим функционирование этой системы, выступает Минцифры России, а непосредственными пользователями будут Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, операторы связи, а также иные федеральные органы исполнительной власти и организации.
Одновременно проходят общественное обсуждение проекты постановлений Правительства Российской Федерации, определяющие пилотные проекты создания эффективного механизма оперативного взаимодействия и информационного обмена по противодействию правонарушениям с использованием информационно-коммуникационных техно-логий5. Круг участников пилотных проектов конкретизирован и дополнен компанией,
Вестник Сибирского юридического института МВД России
обеспечивающей проведение безналичных платежей.
Насколько эффективно будет осуществляться межведомственное информационное взаимодействие, покажет время, однако уже сейчас очевидно, что в условиях цифровизации правоохранительный сегмент административно-юрисдикционной деятельности подвергается существенным изменениям.