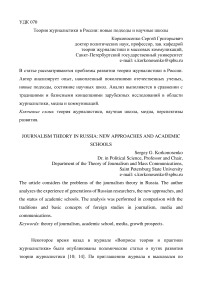Теория журналистики в России: новые подходы и научные школы
Автор: Корконосенко Сергей Григорьевич
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Рубрика: Теория медиа и медиаобразования
Статья в выпуске: 18, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы развитии теории журналистики в России. Автор анализирует опыт, накопленный поколениями отечественных ученых, новые подходы, состояние научных школ. Анализ выполняется в сравнении с традициями и базисными концепциями зарубежных исследований в области журналистики, медиа и коммуникаций.
Теория журналистики, научная школа, медиа, перспективы развития
Короткий адрес: https://sciup.org/147218282
IDR: 147218282 | УДК: 070
Текст обзорной статьи Теория журналистики в России: новые подходы и научные школы
Некоторое время назад в журнале «Вопросы теории и практики журналистики» были опубликованы полемические статьи о путях развития теории журналистики [10; 14]. По приглашению журнала я высказался по существу предложенных авторами подходов [5]. Думаю, что начатый разговор заслуживает продолжения, тем более что в упомянутых публикациях затрагиваются не только проблемы методологии, но и крупные вопросы о взаимоотношениях отечественных и зарубежных научно-теоретических школ, о связях знания вчерашнего с сегодняшним и завтрашним, о перспективах развития целой отрасли знания.
В статье А. П. Суходолова и М. П. Рачкова получает развитие системный подход к анализу СМИ и медиа. Этот взгляд, как правило, сочетается с повышенным вниманием к управлению системой, что мы как раз и наблюдаем в данном случае. Подчеркнем, что речь идет именно о развитии определенной методологии. Будет уместно вспомнить, что особенно сильные импульсы к движению мысли в этом направлении в отечественной науке были даны во второй половине прошлого века, в тесной связи с ростом интереса к кибернетике и использованию математико-статистических инструментов для изучения социальных объектов. В частности, на исследователей прессы заметное влияние оказали труды В. Г. Афанасьева [1 и др.], которые, как представляется, сегодня незаслуженно предаются забвению. В области журналистики наиболее последовательно данную методологию в течение десятилетий разрабатывает М. В. Шкондин [17; 18 и др.]; немало и других имен.
Таким образом, признанная в отечественной науке ветвь исследований получает новое продолжение. В свете данной традиции представляется продуктивным расширение угла зрения на функционирование системы СМИ: «Система как относительно обособленная целостность противостоит среде, окружению … Между медиасистемой и медиасредой существуют как прямые, так и обратные связи. В то же время система СМИ есть часть более широкой системы – информационной сферы с присущими ей (информационной сфере) отношениями, связями и закономерностями» [14, с. 9]. Так строится логически ясная цепь рассуждений, имеющих своим фундаментальным основанием общую теорию систем.
Что, однако, мешает до конца принять логику авторов? Как нередко случается, категоричность при выстраивании приоритетов в пользу «своей» парадигмы. «Она (теория СМИ)… должна вобрать в себя (или создать в себе заново) теорию журналистики как свою составную часть и дать ей новое развитие в рамках более широкого системного подхода» [14, с. 9]. И далее, соответственно, последовательность (иерархичность) необходимых шагов в теоретической работе: создание сначала теории СМИ как динамической системы, затем - теории журналистики как массово-информационной деятельности, на завершающем этапе - теории управления системой СМИ и потоками массовой информации [14, с. 11].
Во-первых, приверженцы иных подходов могут не согласиться: чем плохи, например, историко-генетический, вероятностный, ситуационный, нормативный и иные подходы? По меньшей мере по отношению к журналистике, для изучения которой они используются десятилетиями? Так ли уж обязательно они должны растворяться в пространстве системопостроения, утрачивая самостоятельную значимость? Скажу больше: реальная жизнь приносит разочарования в эффективности системного моделирования. К примеру, чешские исследователи критически переосмысливают развитие теории журналистики в своей постсоциалистической стране, прежде всего восприятие западных моделей структурно-системного анализа: «воображаемый барьер Восток / Запад все еще сохраняется в "нашем" сознании, поскольку "мы" чувствуем, что "мы" другие… и возможно, что "они" чувствуют то же самое. Однако этот специфический контекст исторического опыта и сознания должен рассматриваться и отражаться не только в исследовании структур и систем медиа, но также.. в исследовании аудиторий медиа, каждодневной практики медиа и роли и использования медиа для установления как национальной, так и индивидуальной идентичности» [24, р. 135]. Конечно, можно сослаться на некорректность использованных моделей или их приложения к реальности своей страны, но от таких просчетов не гарантирован ни один методический опыт.
Во-вторых, возникают сомнения насчет управления системой СМИ как приоритетной цели. А если «бессистемно» прислушаться к широко распространенному в современном мире мнению о высшей ценности самопроявления личности, в том числе через прессу? Можно также расценивать журналистику как явление духовной культуры – национальной и мировой, как сферу профессиональной творческой деятельности, как хранилище исторической памяти… В этих и иных контекстах вряд ли будет уместно придавать задаче управления первостепенное значение.
В-третьих (и это, кажется, корень вопроса), мы по инерции сводим журналистику к массово-информационной деятельности, и тогда трудно возражать против ее включения в состав СМИ на правах структурного элемента. Между тем названная инерция исторически юна и более того – привнесена искусственно, если не сказать волюнтаристски. Исследователи старшего возраста хорошо помнят, что наименование «средства массовой информации и пропаганды» стало появляться в директивных партийных документах в 1970-х годах, в частности в материалах XXIV съезда КПСС (1971). Разумеется, пропаганда в скором времени отпала, в силу своей откровенно идеологической окрашенности, но аббревиатура «СМИ» закрепилась в официальном, профессиональном, юридическом лексиконе, а затем и в бытовом общении. Так, волевым порядком, существо редакционной деятельности было ограничено распространением массовой информации. Мы, что называется, создали себе проблему, поскольку, с одной стороны, обкорнали понимание многофункционального социального института, исходно называвшегося прессой (за этим словом стояли и деятельность, и определенного рода произведения, и власть над умами, и профессиональный этос и т. д.). С другой стороны, мы вывели свой терминологический аппарат за пределы международного словаря. За рубежом наименование «СМИ» встречаются разве что в некоторых бывших советских республиках, а общепринятыми стали другие названия.
Ситуация терминологического распутья сохранялась еще в начале 1980-х годов, когда говорилось, что американские теоретики ввели новые термины – mass communication и mass communications, то есть средства коммуникации, «хотя этому обозначению ближе соответствует термин “mass media”. Трудно отдать предпочтение одному из русских переводов этих терминов, хотя нам представляется более удачным “массовая информация” и соответственно “средства массовой информации”» [2, с. 21]. Перевод весьма небесспорный, тем более что к настоящему моменту в трудах исследователей стал доминировать выбор в пользу медиа, а не информации. «Конец теории массовой коммуникации: рост теории медиа» [19, p. 362] – так называется заключительная глава фундаментальной истории коммуникационной науки американских авторов. Как можно заметить, акцентируются не столько процессы (коммуникация), сколько средства и каналы их осуществления. Значит, содержание процессов должно обозначаться иными словами, и поэтому «медиа», «коммуникация» и «журналистика» не заменяют и не вытесняют друг друга в международном научном словаре.
Для чего потребовался экскурс в генеалогию понятий? Чтобы стали очевидными некоторые методологически значимые выводы. Первое: нет самостоятельной научной ценности в создании теории СМИ, которые, согласно действующему законодательству, представляют собой всего лишь формы распространения массовой информации. Если мы не хотим оставаться на обочине мировой научной мысли, следует как минимум встроиться в интернациональный контекст, для которого сегодня органично понятие медиа. Второе: соответственно, теория журналистики не может быть производной от теории СМИ. Она не вытекает и из теории медиа и коммуникации, хотя тесно соприкасается с ними, поскольку у функционирования журналистики есть медийные и коммуникационные аспекты.
Такие комментарии рождаются по прочтении проекта новой теории средств массовой информации. Как представляется, это проект внутренне целостный, опирающийся на солидную концептуальную базу и, безусловно, заслуживающий дальнейшей разработки. Однако при условии, что предложенный подход не претендует на монопольное положение, а сосуществует на равных с другими направлениями исследования медиа и журналистики, в том числе из гуманитарного спектра. В данном отношении надо согласиться с тезисом Е. Г. Попковой и А. С. Нацубидзе о том, что «излишняя математизация социальногуманитарных знаний может привести к искажению их сути… и поэтому не является целесообразной» [10, с. 526]. Обратим внимание: излишняя.
Однако некоторые другие их идеи и высказывания вызывают желание оппонировать или хотя бы внести уточнения. Взять хотя бы заключительный вывод: «СМИ необходимо рассматривать не как объект и самоцель проведения фундаментальных научных исследований, а как инструмент изучения общества и решения прикладных социально-экономических и политических задач» [10, с. 527]. За что же такая немилость? Попробуем заменить СМИ на другой социальный институт: государство (религия, школа, церковь, армия) – не объект и самоцель проведения фундаментальных научных исследований. Не слишком ли агрессивно звучит такое допущение? В том, что пресса относится к разряду социальных институтов, не сомневаются исследователи, рассматривающие ее в этом качестве. «По мере того, как пресса росла и комплексно развивалась – с точки зрения структуры, журналистских задач, понимания своей роли и как социальный институт... Историческое развитие изменяло журналистику как профессию и социальный институт...» [20, p. 18], – определенно говорится в американском обзоре истории журналистики. По всей видимости, стоит согласиться с профессором из Бразилии (и далеко не с ним одним) в том, что «журналистика открывает возможности для создания специализированной области знаний, которая... требует разработки своих, специфических методик, чтобы быть признанной в полной мере [23, p. 12].
Теперь несколько соображений по поводу хронологии создания теорий и приоритете их авторов. Для начала хотелось бы вспомнить о том, что попытки подобного систематизированного описания в отечественной науке делались и неоднократно. Назовем, например, блистательную по полноте материала и эрудиции автора главу «Развитие социологического знания о журналистике (историко-теоретический очерк)» в учебнике «Социология журналистики», написанную петербургским профессором С. М. Виноградовой [13, с. 43-88]. В ней этапы и события истории мировой теоретико-журналистской мысли прослеживаются от «Риторики» Аристотеля до первого десятилетия XXI в. Содержание этого и подобных трудов убеждает как минимум в том, что российские специалисты самым активным образом участвовали в формировании научного знания о прессе и нередко шли по непроторенным путям; соответственно, нельзя безоговорочно принять утверждение, будто бы «концептуальные основы теории СМИ заложены многочисленными зарубежными авторами» [10, с. 526].
Е. Г. Попкова и А. С. Нацубидзе констатируют, что «в 1970-х – 1980-х гг. ученые в ряде стран мира принимали активные меры, чтобы заложить основы современной теории СМИ» [10, с. 523]. В общем плане с данным утверждением не приходится спорить, поскольку, действительно, интенсивный поиск шел в этот период, как, впрочем, и в другие времена. Но можно ли говорить, что закладывались основы, то есть теория строилась заново? Уважаемые авторы называют несколько пионерных публикаций на определенных направлениях теоретической работы и предлагают сводную таблицу таких новаций. В частности, по их оценке, социальный подход был предложен Т. Беннеттом в 1982 г.: теория СМИ рассматривается как теория общества, то есть СМИ сопоставляются с обществом и рассматриваются как его неотъемлемая часть. Но позвольте, социальность прессы акцентировалась на всех этапах истории изучения журналистики, от самого зарождения печати, здесь даже не требуются ссылки на авторитеты. Если же обращаться ко второй половине XX века, то как не вспомнить, например, выдающихся представителей социологии коммуникаций Дж. Меррилла, Ю. Хабермаса, Д. Макуэйла, идеи которых и в самом деле обогатили науку. Для отечественной школы социальность журналистики традиционно входит в круг главных предметов интереса, что с контрастной четкостью проявилось в советскую эпоху. В одном из самых интеллектуально насыщенных учебников той поры назывались следующие закономерности журналистики: оказание определенного социально-управляющего воздействия на массовую аудиторию, классовость журналистики, отражение в системе СМИ определяющих черт социально-политической структуры данного общественного устройства [15, с. 27–28]. Совсем не обязательно соглашаться с трактовками советских исследователей (как, кстати сказать, и западных теоретиков), но нельзя и не учитывать их при составлении реестра новаторов.
В таком же ключе следует воспринимать заявление о том, что основоположником коммуникационного подхода является Д. Серваес (2003 г.), который считает, что СМИ обеспечивают международные коммуникации. При чтении этих слов на память приходит деятельность комиссии по изучению проблем коммуникации под руководством Шона Макбрайда, созданной ЮНЕСКО в 1977 г. Обстоятельный доклад комиссии под названием «Много голосов – один мир» [22] включал в себя многочисленные темы, и он действительно открыл новую страницу в понимании межкультурных коммуникаций в современном мире. Научная добросовестность обязывает сказать здесь о незаурядном вкладе У. Шрамма в разработку методологии исследования межкультурных и межэтнических коммуникаций; его первые книги по теории коммуникации появились еще в 1940-х гг., а знаменитый труд «Масс медиа и национальное развитие» – в 1960-х [25].
Несколько замечаний о компетентностном подходе, будто бы появившемся в 2005 г., основатель С. Юлла: будущее развития СМИ связано с систематизацией, осмыслением и отбором нужной и достоверной информации; чтобы вырабатывать собственное представление о событиях, современному человеку нужно понять, как можно использовать СМИ, вместо того чтобы становиться их жертвой, и т. п. [10, с. 524]. Эти и им подобные идеи лежат в основе концепций медиаобразования и медиаграмотности; взрывной рост интереса к ним в мире обозначился в 1960-1970-х гг., в частности, под влиянием апокалиптических сценариев М. Маклюэна, предрекавшего всесилие ТВ и других массмедиа. Ныне эта область научной и учебно-методической деятельности получила необычайно активное развитие, есть признанные лидеры-исследователи за рубежом (Д. Букингэм, Б. Мак-Махон, Л. Мастерман и др.) и в России (Е. А. Бондаренко, А. В. Федоров, А. В. Шариков и др.), на разных языках выходят академические труды, в том числе содержащие всестороннее описание истории и концепций современного медиаобразования, а также формируемых в этом плане компетенций [16].
Смысл этого разбора журнальных публикаций заключатся в том, чтобы еще раз увидеть, что реальное состояние теории журналистики представлено гораздо более сложной картиной, чем может показаться при первом приближении к ней. Несомненно, в ней надо наводить порядок, но только не путем отметания накопленного ранее материала и выдвижения одной «единственно верной» теории. Строго говоря, одной теории вообще не может быть, надо постоянно иметь в виду неизбежное сосуществование множества теорий. Реализм подхода к этому множеству заключается в том, чтобы выявить его, систематизировать, обнаружить слабые места, включая архаику, и точки вероятного прорыва, включая невероятные по первому впечатлению версии.
В этой связи заслуживает беспокойства наше отношение к поддержке отечественных научных школ в области журналистики. Некоторый опыт их описания в литературе встречается. Из относительно недавних публикаций сошлемся на обзорную статью Е. П. Прохорова об истории преподавания и разработки теории журналистики, главным образом в МГУ им. М. В. Ломоносова [11]. Широкую известность получили социологические наблюдения Л. Г. Свитич и А. А. Ширяевой, посвященные развитию журналистского образования и в этой связи затрагивающие направления и результаты научных исследований [12 и др.]. Задачу проследить движение научной мысли в предметно-дисциплинарном ключе успешно выполнил А. Ю. Быков [3]. Серьезным и своевременным вкладом в решение данной задачи стала диссертация Д. В. Дунаса [4].
Однако ни в названных публикациях, ни в иных работах по сходной тематике не рассматривается вопрос о научных школах как специальный предмет исследования. Тем более не содержится их стройной и полной классификации. В данном отношении мы заметно проигрываем ряду национальных исследовательских сообществ за рубежом, которые взяли на себя труд собирательства и систематизации. Приведем примеры классифицирующих работ, с учетом того, что в западной традиции речь часто идет о коммуникативных исследованиях или так называемых media studies. Encyclopedia of communication theory [21] включает в себя более 300 статей, при 200 авторах из 10 стран мира, с разных континентов. Основное содержание двухтомника дополнено читательскими указателями, в которых, во-первых, все теории сгруппированы в тематические блоки (критические, культурологические, философские, лингвистические и др.), во-вторых, представлены имена теоретиков с обозначением их научных интересов, в-третьих, дана хронология событий в истории научной мысли по вопросам коммуникации. По иной методической схеме построена монография Mass communication theory: Foundations, ferment, and future [19]. В ней за структурообразующий принцип взята эволюция научных взглядов, в тесной взаимосвязи с движением в социальной, коммуникационной и журналистской практике.
Приведенные примеры убеждают, что задача заслуживает специальных, целенаправленных усилий и она не может решаться формально. К формальным решениям следует отнести отождествление научно-образовательных организаций или исследовательских коллективов с научными школами. Такие попытки регулярно делаются, причем далеко не только в области журналистики. Так, Минобрнауки России ежегодно объявляет конкурсы на право государственной поддержки ведущих научных школ. В свою очередь, вузы вводят в действие собственные нормативные акты, нацеленные на выявление и поддержку «внутренних» научных школ. В них можно встретить положение о том, что руководитель школы назначается и отстраняется от исполнения обязанностей приказом ректора университета [9]. С подобными инициативами выступают и общественные объединения в сфере науки. К примеру, Российская академия естествознания (РАЕ) создала пополняемую энциклопедию «Российские научные школы», источником данных для которой служат личные заявления соискателей [7]. Вероятно, как форма стимулирования исследовательской деятельности такие проекты не должны вызывать возражений. Вместе с тем обращает на себя внимание прямолинейность и обманчивая легкость выбора из числа претендентов. Об этом, в частности, свидетельствует многочисленность школ. Так, в списке РАЕ их насчитывается около 250 в медицинских науках, более 120 в педагогических, 40 в философских и т. д.
Эти общие положения непосредственно относятся к отечественной теории журналистики. Здесь тоже, с одной стороны, неприемлема погоня за статистикой, с другой стороны - необходимо по достоинству оценить сделанное несколькими поколениями ученых. Достаточно бросить взгляд на исторически недавнее прошлое, чтобы увидеть материал для осмысления и теоретикоконцептуальной атрибуции.
В частности, углубленного внимания заслуживает теоретический арсенал советского времени, взятый совокупно, как формационное явление в научной истории. Нет необходимости в его детальном описании, это многократно и отчетливо было сделано в свое время: Бережной А. Ф. Ленин - создатель печати нового типа (1893-1914 гг.). Л., 1971; Кузин В. И. Газета - орган партийного комитета. Л., 1971; Средства массовой информации и пропаганды / сост. Б. М. Морозов. М., 1984 и др. Для признания существования школы важно, что в масштабах социальной мегасистемы (Советский Союз и государства социалистического блока) сформировалось однородное направление теоретической мысли, восходившее к определенной - марксистской - идеологии, давшее имена признанных исследователей-лидеров и воспроизводившее себя в трудах нескольких поколений специалистов. Добавим, что директивное одобрение (и даже насаждение) идеологического единообразия отнюдь не исключало полемичности в понимании методологических вопросов - например, по поводу принципов журналистики, ни разработки категориального аппарата на уровне высокой теории. В последнем случае надо вспомнить о попытках осмыслить категории законов, функций, назначения, эффективности журналистики, которые в зарубежных исследовательских культурах чаще рассматривались с уклоном в эмпиризм.
Для гуманитарного познания особенно значим вывод науковедения о том, что «переход к новой парадигме отнюдь не означает полного перечеркивания прежней. Возможна такая модель развития науки, когда сохраняется преемственность между старой и новой парадигмами…» [8, 114]. В новых исторических обстоятельствах нет места «советским» постулатам, но проложенное тогда методологическое русло не стоит предавать забвению. Это особенно важно иметь в виду, когда речь идет о проблемах, относительно далеких от политико-идеологического контекста времени. В частности, о профессионально-творческих стилях и методах труда в журналистике. 1970-е – 1980-е годы прошлого столетия в нашей стране были ознаменованы углубленной разработкой вопросов публицистики как особого рода творческой деятельности в журналистике, явления культуры и способа познания действительности, в органичной связи с ними изучались законы и методические основы журналистского мастерства. На этой проблематике сосредоточили усилия видные теоретики, за которыми шли многочисленные последователи: Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества. М., 1975; Здоровега В. И. У майстернi публiциста. Львiв, 1969; Прохоров Е. П. Искусство публицистики. М., 1984; Стюфляева М. И. Поэтика публицистики. Воронеж, 1975; Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971; Черепахов М. С. Таинства мастерства публициста. М., 1989 и др. Не увидеть здесь яркую и продуктивную национальную школу, при всех различиях между ее представителями, можно только по причине субъективизма наблюдателя либо неразвитости профессиональной культуры. Между тем с прежних теоретических высот нынешняя наука спускается на уровень прикладного анализа и учебных рекомендаций. Исследователи признают, «что сегодня мы не имеем системной научной теории истолкования произведений журналистики – даже тех из них, что представлены в традиционной газетно-журнальной форме» [6, 123].
Признаками школ обладают и некоторые другие направления, совместно разрабатываемые коллективами ученых. К их числу относятся компаративистские программы, выявляющие сходство и различия отечественной и зарубежной журналистики: СМИ в меняющейся России / под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2010; Journalists in three media systems: Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future / M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren (Eds.). Moscow, 2014; Vartanova E. Constructing Russian media system in the context of globalization // World of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies-2013. Moscow, 2014 и др. Прочные позиции в научном сообществе заняли московские социологи журналистики: Журналистика и социология / под ред. И. Д. Фомичевой. М., 1995; Свитич Л. Г. Социология журналистики. М., 2015; Социология журналистики / под ред. Е. П. Прохорова. М., 1981; Фомичева И. Д. Социология СМИ. М., 2012 и др. Специалисты уточняют, что «трудами представителей санкт-петербургской и екатеринбургской исследовательских школ наиболее ярко представлены социологическое и политологическое направления в изучении журналистики» [6, 124].
Безусловно, ряд претендентов на статус школы не исчерпывается приведенными примерами. Однако проблема в целом не решается перечислением. Она коренится в точном самоопределении исследовательских коллективов и сообществ и, следом за тем, в тщательной классифицирующей обработке массива первичной информации об их деятельности. Тем самым будет сформирована база для адекватной оценки состояния отечественной теории журналистики и одновременно – для взвешивания ценности новых предложений, нацеленных на развитие науки.
Список литературы Теория журналистики в России: новые подходы и научные школы
- Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. – М.: Политиздат, 1975.
- Буржуазные теории журналистики (критический анализ) / под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Мысль, 1980.
- Быков А. Ю. Проблемы методологии исследования журналистики в России // Методы понимания в журналистике и массовых коммуникациях / под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Своё издательство, 2015.
- Дунас Д. В. Развитие и современное состояние теоретических исследований журналистики и СМИ в России: дис. … канд. филол. наук. – М., 2016.
- Корконосенко С. Г. Теория журналистики: от схематизма к реализму // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – T. 5. – № 4.
- Короченский А. П.Мировая журналистика: история, теория, практика / ред.-сост. С. Г. Торчинский. – Белгород, 2015.
- Научные школы. URL: http://www.famous-scientists.ru/school/.
- Павельева Т. Ю.Трансформация содержания деятельности научно-образовательных школ в условиях смены научных парадигм // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Философ. науки. – 2011.
- Положение о научной школе Московского гуманитарного университета. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/school/polozenie/.
- Попкова Е. Г., Нацубидзе А. С. Эволюция и новые очертания теории средств массовой информации в XXI веке // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – T. 5. – № 3.
- Прохоров Е. П. История преподавания и разработки теории журналистики // Медиаскоп. – 2006. – Вып. 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/177.
- Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Российский журналист и журналистское образование: социологические исследования. – М., 2006.
- Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.
- Суходолов А. П., Рачков М. П. К созданию теории средств массовой информации: постановка задачи // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – T. 5. – № 1.
- Ученова В. В. Основы марксистско-ленинского учения о журналистике. – М.: Изд-во МГУ, 1981.
- Федоров А. В. Медиаобразование: история и теория. – М.: МОО «Информация для всех», 2015.
- Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор общественного диалога. – М.: Пульс, 2002.
- Шкондин М. В. Печать: основы организации и управления. – М.: Изд-во МГУ, 1982.
- Baran S. J., Davis D. K.Mass communication theory: foundations, ferment, and future. – 6th ed. – Belmont: Wadsworth, 2012.
- Dicken-Garcia H. Journalistic standards in nineteenth-century America. – Madison: University of Wisconsin Press, 1989.
- Encyclopedia of communication theory / S. W. Littlejohn, K. A. Foss (eds.). – Thousand Oaks: Sage, 2009.
- MacBride S., et al. Many voices, one world: towards a new more just and more efficient world information and communication order. Report by International Commission for the Study of Communication Problems. – Paris: UNESCO, 1980.
- Machado E. From journalism studies to journalism theory. Three assumptions to consolidate journalism as a field of knowledge // Brazilian Journalism Research. – 2005. – Vol. 1. – No. 1.
- Reifová I., Pavlíčková T. Invisible audiences: structure and agency in post-socialist media studies // Mediální Studia. – 2013. – II.
- Schramm W. Mass media and national development. The role of information in the developing countries. – California: Stanford University Press, 1964.