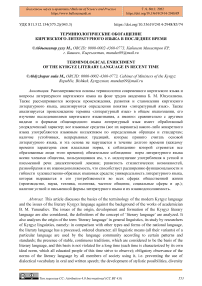Терминологические обогащение киргизского литературного языка в последнее время
Автор: Абдыжапар Уулу Мундузбек
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 12 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основы терминологии современного киргизского языка и вопросы литературного киргизского языка на фоне трудов академика Б. М. Юнусалиева. Также рассматриваются вопросы происхождения, развития и становления киргизского литературного языка, анализируются определения понятия «литературный язык». Также анализируется происхождение термина «литературный язык» в общем языкознании, его изучение исследователями киргизского языкознания, а именно: сравнительно с другими видами и формами общенародного языка литературный язык имеет обработанный упорядоченный характер; все языковые средства (все их варианты) какого-либо конкретного языка употребляются языковым коллективом по определенным образцам и стандартам; наличие устойчивых, непрерывных традиций, которые принято считать основой литературного языка, и эта основа не нарушается в течение долгого времени (каждому времени характерна своя идеальная норма, к соблюдению которой стремятся все образованные люди этого времени); обязательное соблюдение норм литературного языка всеми членами общества, пользующимися им, т. е. недопущение употребления в устной и письменной речи диалектической лексики; развитость стилистических возможностей, разнообразия и их взаимодополняемость, что способствует расширению функциональности и гибкости художественно-образных языковых средств; универсальность литературного языка, которая выражается в его употребляемости во всех сферах общественной жизни (производство, наука, техника, политика, частное общение, социальные сферы и др.); наличие устной и письменной формы литературного языка и их взаимодополняемость.
Термин, иностранный язык, лексика, терминология, литературный язык, наука, история
Короткий адрес: https://sciup.org/14126173
IDR: 14126173 | УДК: 811.512.154(575.2)(043.3) | DOI: 10.33619/2414-2948/85/74
Текст научной статьи Терминологические обогащение киргизского литературного языка в последнее время
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 811.512.154(575.2)(043.3)
После падения Великой империи в начале 90-х годов двадцатого века произошли события, имеющие эпохальное значение. На наш взгляд, сколько бы мы ни писали и ни комментировали потрясшее весь мир событие, история сама даст оценку и определит значение произошедшего. Тогдашняя политика перестройки, гласности, демократии, осуществлявшая свое путешествие по бескрайним просторам нашей необъятной страны, привела в сознание народа новые, совершенно немыслимые доселе взгляды на жизнь, и понятия, которые были чужды для традиционалистской культуры нашего народа [1].
Безусловно, нет никаких сомнений в том, что такие изменения в жизни целого народа отображаются прежде всего в языке. Признание (одной из первых) Турецкой Республикой независимости Кыргызстана послужило основой для укрепления дружеских связей между двумя братскими народами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Взаимоотношения стран прямым образом отразились и на развитии нашего языка. Проникшие в нашу речь отдельные турецкие термины стали повсеместно употребляться в обществе и активно распространяться в средствах массовой информации. Например, участились случаи использования слов жумурият (сами тюрки говорят «жумхурийет») вместо республика, учак – самолет, мүдүр – руководитель, директор, отурум – заседание, мармар – мрамор, эгемен – суверенитет. Можно сказать, что за исключением слова “мүдүр” вышеобозначенные лексемы твердо укрепились в речи нашего народа.
Когда одна система сменяется другой, происходит переход от одного качества к другому, все экономические, политические, социальные и иные изменения и процессы прежде всего отражаются в языке народа и сохраняются там. Стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь понятия акционер, акциз, аудит, бакалавр, ваучер, вотум, дивиденд, диверсификация, инвестиция, инвестор, квота, лоббизм, консенсус, мажоритардык (мажоритарный), маклер, менеджмент, меценат, отель, офис, плюрализм, спикер, секвестр, спонсор, субижара (субаренда), субвенсия, субсидия, толеранттуулук, унитардык, чартер и т. д. еще вчера были нам совершенно неизвестны, а сегодня – это реалии нашей жизни. Как известно, проникновение иностранных слов в любой язык ощутимо способствует его обогащению. Один язык, обогащаясь за счет другого, более развитого языка (языков), языка-моста, получает новые понятия, необходимые ему самому. Подобный процесс наблюдается сегодня и в киргизском языке. Такие новые термины, как индикативдик (индикативный), мониторинг, интернет, институционалдык (институциональный), ипотека, компьютер, ноутбук, мэр, мэрия, гастарбайтер, бисмейкер, дайджест, промоутер, риэлтор, паркур, диджей, брокер, билборд, люстрация, холдинг, санация, омбудсмен, сэндвич, преференция, реструктуризация, реституция, секвестр, тендер, терминал, трансферт, нанотехнология, гаджет нынче успешно используются в нашем языке [2-7].
Следует отметить, что наряду с активным заимствованием иностранных слов предпринимаются попытки передачи иностранных терминов в наш родной язык в эквиваленте, например: аккумулятор (лат.) — жыйнагыч; аргумент (лат.) — ыспат, далил; автостанция (фр.-лат.) — авточордон; габарит (фр.) — тыш өлчөм; конденсатор (лат.) — коюланткыч; клапан (нем.) — сарпбашкаргыч; компостер (фр.) – тешкич; конвейер (англ.) — ташыгыч; насос (рус.) — соркыскыч; материал (лат.) — текзат; модуль (лат.) — ченемат; план (пол.) — мерчем; платформа (фр.) — секи; процессор (англ.) — жараяндагыч; резонанс (фр.) — өөрчүн; радиостанция (лат.) — радиочордон; режим (фр.) — шарттам; траншея (фр.) — сай казгыч; энергия (гр.) — зарде (ир. мощь); электростанция (гр.) — электр чордону; подстанция – көмөк чордон; электрические линии (гр.) – электр чубалгылары; цифра (ар.) – санарип; патруль (фр.) — кайгуул. Как отмечал литературный критик XIX века В. Г. Белинский, «главный хранитель чистоты языка — его же собственный дух…», а не грамматика или грамотеи. Это означает, что некоторые из них заимствований получают поддержку большинства и продолжают сопротивляться критике меньшинства.
Рассматривая протоколы Терминологического комитета при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте КР, мы обнаруживаем следующую статистику.
Заседание Терминкома проводилось раз в месяц и в течение 2004 года (за 10 заседаний) было принято более 1000 терминов, в 2005 году — 1265 слов, в 2006 году — 1600 терминов и слов, в 2007 году — 1450 терминов, в 2008 году — 1300 терминов, в 2009 году — около 1000 терминов, в 2010 году — около 200 терминов (по протокольным показателям), и представлены на общественное обсуждение через средства массовой информации. С 2010 года по 2013 годы было обсуждено около 1000 терминов. В целях устранения вышеуказанных недостатков киргизской национальной терминологии, повышения культуры государственного языка, в частности, его содействия, унификации понятий в общественно-политической жизни, законодательной деятельности, нормативных правовых актах, упорядочения терминов, выражений, относящихся к рыночной экономике, финансовым вопросам, оказания поддержки работникам, осуществляющим делопроизводство на государственном языке, написанию других соответствующих текстов, в рамках решения Комитета Жогорку Кенеша КР по образованию, науке, культуре и спорту от 20 ноября 2012 года по инициативе и финансовой поддержке программы USAID/DFID по содействию Жогорку Кенешу КР был разработан и издан в 2014 году «Русско-киргизский словарь юридических наименований и иных понятий», содержащий около 14 000 слов. В этом словаре также приняты попытки образовать по возможности короткие слова, наименования с одним значением, с нахождением корня слова в соответствии с морфологическим методом словообразования и соответствующим продолжением члена. Это, безусловно, будет иметь большое значение для того, чтобы при написании официальных документов, делопроизводстве каждое слово использовалось с соответствующей ему лексической нагрузкой, а именно, чтобы не создавать смысловых пробелов, обогащать официально-деловой стиль нашего литературного языка в целом [8].
Для точного представления генезиса современного киргизского литературного языка, пути его формирования недостаточно лишь понять роль дореволюционного устного художественного литературного языка, в основе которого лежит язык «Манаса», отдельных образцов ораторского слова, пословиц и поговорок, о чем было отмечено выше. Для этого необходимо открыть, изучить и решить еще много проблем. Скажем, если мы поставим вопрос о том, как создавались образцовые письменные тексты, имеющие первостепенное общественное значение для возникновения литературного языка, кто их создавал, какие вещи и что служило ориентиром, образцом при создании этих текстов, то мы все равно попадаем в тупик. Ибо образцы письменных текстов, как мы отмечали выше, структурно сложны и опираются на другой тип мышления (письменное мышление). Ведь для того, чтобы этот тип мышления, опирающийся на письмо, возник, во-первых, в определенной степени должен быть высокий культурный уровень общества, во-вторых, должна быть развитая система письма, в-третьих, в этом обществе должна развиваться наука, должны создаваться и трудиться люди с таким типом мышления, говоря иначе, должна формироваться национальная интеллигенция, функционировать система народного образования (различные школы, средние, специальные, высшие учебные заведения); и последнее, среди этой интеллигенции должна сформироваться особая группа людей, которая сделает профессией работу со словом, могущая создавать в будущем образцовые тексты на национальном языке – писатели, поэты, ученые и т. д. Само собой разумеется, это очень сложное явление и роль всего этого в возникновении литературного языка еще труднее исследовать, правильно определять, оценивать [9].
Если допустить, что группа людей, работающих со словом – поэты, писатели, журналисты, ученые, лингвисты, философы и т. д. появились. Неужели сразу после этого появятся образцы текстов, которые особенно важны для литературного языка? Разумеется, нет. Для того, чтобы эти люди могли создавать образцовые тексты, им нужно время и явления, которые служат им образцами для подражания (например, опыт создания текста на других родственных или неродственных языках). Потому что языки без письменного литературного языка не имеют опыта создания письменного текста. В подобных случаях для создания текста на национальном языке вышеупомянутые люди часто прибегают к практике создания текста на других языках и пытаются создать аналогичный текст, похожий на них. Это с одной стороны, а с другой стороны — они не только опираются на опыт создания текстов на разных языках, но и стараются использовать то, что уже есть на их родном языке, например, устное народное творчество, некоторые образцы устно созданных текстов в нем, пути, способы его создания и т. д. [10]
Создание образцового письменного текста на национальном языке, ранее не имевшем письменного литературного языка, в первую очередь начинается с обращения к устным текстам на родном языке, а не к опыту создания такого текста на других языках. Запись, публикация фольклорных текстов отдельными представителями национальной интеллигенции – самый ранний этап таких обращений. А вот на втором этапе таких обращений усиливаются попытки не просто опубликовать образцы устной литературы, но и переработать и опубликовать ее, а иногда взять у них какие-то мотивы, сюжеты и на их основе самостоятельно создать какой-то текст. Только после этого можно приступать к созданию небольших художественных текстов. Такое явление характерно для большинства языков, письменный литературный язык которых только начинает формироваться. Это характерно и для начального этапа формирования современного киргизского письменного литературного языка. Но мы знаем об этом явлении только в общих чертах, и пока не можем представить его истинную полную картину. Это само по себе незнание ранних этапов формирования нашего современного письменного литературного языка, непонимание процессов его дальнейшего развития.
Во избежание выдвижения всевозможных предположений и точного выяснения путей формирования нашего письменного литературного языка необходимо начать работу с изучения практики создания письменного текста на этом национальном языке. Различные старания писателей, журналистов, отдельных общественно-политических деятелей, представителей интеллигенции в целом по созданию первичных текстов на страницах таких газет и журналов, как «Эркин тоо», «Кызыл Кыргызстан», «Чабуул», роль этих текстов в возникновении письменного литературного языка, не говоря уже о других фольклорных текстах в становлении нашего письменного литературного языка, требуют отдельного изучения и обобщения. Одним из вопросов, требующих такого изучения для понимания смысла нашего письменного литературного языка, является роль некоторых текстов о киргизах, созданных на чагатайском, так называемом староузбекском языке, с опытом создания текстов киргизских дореволюционных и послереволюционных письменных поэтов, историков, летописцев [11-15].
А вот вопрос о том, какой диалект служил базой для современного письменного литературного языка и как был решен этот вопрос (то есть вопрос о том, какой диалект будет взят за основу для вновь созданного литературного языка), также требует отдельного изучения. Ибо и поныне многие представители нашей интеллигенции, в том числе некоторые лингвисты считают, что основой для нашего современного письменного литературного языка послужил северный диалект. Более того, среди них встречаются и такие, которые считают, что из северных диалектов именно иссык-кульский говор стал основой современного литературного киргизского языка. Также имеется альтернативное мнение, утверждающее, что формирование языка на южном диалекте сделало бы язык более гибким и богатым, поскольку его словарный запас обширнее и включает в себя специальные термины по земледелию, ремеслу, торговле и т. д. И это все обоснованно порождает неутихающие споры лингвистов. В отношении таких узких взглядов и заблуждений, не имеющих научного обоснования видный ученый, академик Б. М. Юнусалиев отметил, что киргизский литературный язык создан не на одном диалекте, не на одном говоре, а на основе общенародного языка.
Это все верно, однако в период формирования и становления литературного языка, определения норм и стандартов письменности, со стороны специалистов, орудием труда которых является слово, необходимо еще проведение глубоких детализированных исследований. Только один пример, базой создаваемого в то время литературного языка явился диалект, или, как сказал Б. М. Юнусалиев, общенародный язык был осознанно выбран или выбор происходил стихийно? Если выбор осуществлялся сознательно, то как, каким образом это происходило, если это происходило стихийно и случайно, то какие предпосылки для этого были? Объективные ответы на эти вопросы мы сможем получить только после проведения специального исследования [1, 2].
Обычно, когда литературный язык только формируется, перед обществом возникают вопросы о том, какой диалект, какие языковые средства следует принять как норму в качестве основы литературного языка. Если процесс формирования литературного языка характеризуется как резкий, стремительно развивающийся, то соответственно общество также должно быстро найти ответы на возникающие вопросы. В нем участвуют различные общественно-политические силы, различные группы, объединения (например, этнические, профессиональные, географические и т.д.) и каждый из них играет свою определенную роль.
Несмотря на то, что указанные вопросы в свое время решались государственноадминистративными решениями, декретами, постановлениями в том или ином ключе, в течение жизни литературного языка эти вопросы ставятся по-разному, как открыто, так и закрыто, повторяясь на протяжении длительного периода времени, и становясь предметом различных литературно-публицистических, научных полемик.
Список литературы Терминологические обогащение киргизского литературного языка в последнее время
- Юнусалиев Б. М. Тандалган эмгектер. Фрунзе: Илим, 1985.
- Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология. Вып. I. Фрунзе, 1959.
- Абдулдаев Э. Благотворное влияние русского языка на становление и развитие киргизского языка // Могучий фактор национально-языкового развития. Фрунзе, 1981.
- Батманов И. А. Принципы орфографии киргизского языка // Труды ИЯЛИ киргизского филиала АН СССР. Вып. 2. 1948.
- Бернштам А. Н. Сложение тюркоязычного населения Средней Азии и происхождение киргизского народа // ТКАЭ. Т. III. Ф., 1959.
- Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–IX вв. Л., 1980.
- Лихачев Д. Записки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л.: Советский писатель. 1989.
- Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.,-Л., 1952.
- Орузбаева Б., Осмонова Ж. Взаимодействие с русским языком – основной фактор становления и развития терминологической системы современного киргизского языка // Могучий фактор национально-языкового развития. Фрунзе, 1981.
- Орузбаева Б. Кыргыз терминологиясы. Фрунзе, 1983.
- Орузбаева Б. Кыргыз тил илими. Макалалар жыйнагы. Т. II. Бишкек, 2004.
- Сыдыков С. Монгольско-тюркские языковые параллели. Фрунзе, 1983.
- Тенишев Э. Р. О наддиалектном характере тюркских рунических памятников // Turcologica к семидесятилетию академика А. Н. Кононов. Л., 1976.
- Шукуров Д. Ш. Сочинения. Бишкек, 2003.
- Дыйканов К. Кыргыз тилинин тарыхынан. Фрунзе, 1980.