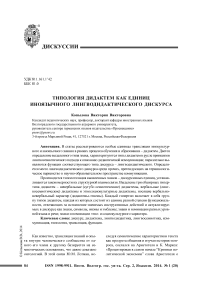Типология дидактем как единиц иноязычного лингводидактического дискурса
Автор: Копылова Виктория Викторовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 1 (20), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особые единицы трансляции инокультурного и иноязычного знания в рамках процесса обучения и образования - дидактем. Дается определение выделенного типа знака, характеризуются типы дидактем в русле принциповлингвосемиотического подхода к описанию дидактической коммуникации; параллельно выявляются функции соответствующего типа дискурса - лингводидактического. Определяется место лингводидактического дискурса среди прочих, претендующих на терминологическое первенство в научно-образовательном пространстве коммуникации. Производится типологизация выявленных знаков - дискурсивных единиц, устанавливаются закономерности их структурной взаимосвязи. Выделены три обширных гипертипа дидактем - невербальные (сугубо семиотические) дидактемы, вербальные (лингвосемиотические) дидактемы и этносоциокультурные дидактемы, носящие вербально-невербальный характер (дидактемы-этнемы). Каждый гипертип включает в себя группу типов дидактем, каждая из которых состоит из единиц разной степени функциональности, отвечающих за исполнение значимых инструктивных действий и актуализируемых в дискурсе как знаки, символы, иконы и эмблемы; знаки и номинации разных уровней языка и речи; знаки и номинации этно- и социокультурного характера.
Дискурс, дидактема, лингводидактика, лингвосемиотика, коммуникация, типология, трансляция, функция
Короткий адрес: https://sciup.org/14969756
IDR: 14969756 | УДК: 811.161.142
Текст научной статьи Типология дидактем как единиц иноязычного лингводидактического дискурса
Как известно, трансляция знаний и опыта внутри человеческого сообщества от одного его члена к другому базируется на семиотических основаниях, что давно доказано онтологией. В этой связи Ю.М. Лотман, ис-
следуя семиотические характеристики текста как продукта общения и изучая историю вопроса, сослался на Аристотеля и К. Маркса: «Процитировав в самом начале “Критики политической экономии” слова Аристотеля о том, что “пользование каждым объектом владения бывает двоякое: …в одном случае объектом пользуются для присущей ему цели назначения, а в другом случае – для неприсущей ему цели назначения”, Маркс сразу же определял неизбежность знакового посредничества при обмене, семиотизации коммуникационного процесса» [13, с. 146].
Данное обстоятельство заставляет более внимательно посмотреть на знаки, участвующие в таком посредничестве, равным образом как и на то, какие функции эти знаки исполняют, актуализируясь в коммуникативном процессе. В случае с интеракцией, имеющей целью передать знание, обучить и научить, сформировать компетенции и определенные навыки в какой-то из областей знания, важно также выявить функции самого процесса посредничества, то есть функции соответствующего дискурса, в который знаки, «несущие на себе обязанность» передачи информации обучающего плана, погружены.
Таким образом, в задачи статьи входит, во-первых, выявить функции такого типа дискурса, во-вторых, определить те знаковые единицы, которые в данном дискурсе эту функцию исполняют; наконец, в-третьих, типологизировать выявленные знаки – дискурсивные единицы, установив закономерности их структурной взаимосвязи.
Когда говорят о коммуникации как процессе передачи знаний и обмена информацией в целях обучения, научения и формирования компетенций, то используют термин «дидактический дискурс», поскольку он наиболее точно рефлектирует инструктивно-импактный характер коммуникации в сфере обучения и образования. История его апробации началась еще в эпоху «великих греческих дидактов» – Сократа и Аристотеля, в недрах школ которых как раз родились термины διδακτική (дидактика, обучение) и διδακτικός (дидактический, обучающий). Значение термина «дидактический дискурс» емко вбирает в свой семный состав идею об информационном воздействии инструктора, о последовательном формировании компетентности воздействуемого в любой сфере знания, о научно обусловленных закономерностях процесса обучения, о плодотворном воспитательном воздействии знания, при котором развивается интеллект и рождается просвещенная личность.
Кроме того, он обладает объяснительной силой, значительно более эффективной по сравнению с прочими терминами, предлагаемыми для обозначения процесса обучения, поскольку в нем удачно сочетаются рефлексии институциональности коммуникативной ситуации обучения, персонифициро-ванности передаваемой информации, коммуникации в учебной аудитории и научной деятельности, развивающей методы передачи и усвоения знаний.
В мировую лингвистику понятие «дидактический дискурс» (didactic discourse) почти одновременно ввели Д. Шифрин (Shifrin) [28], Тиун ван Дейк [26], а также представители латвийской дидактической школы И. Крами-на [27] и И. Жогла [32; 33]. В зарубежном языкознании также используется термин «classroom discourse» [23–25; 29–31], однако нам представляется, что в этом наименовании «отсекается» часть вузовского хронотопа и иных учебных заведений и коммуникативных ситуаций, поэтому термин «дидактический дискурс» для нашего исследования предпочтителен.
Системное изучение данного типа дискурса было начато в 2006 г. российским лингвистом М.Ю. Олешковым при попытке моделирования коммуникативных процессов [16]. Этот феномен понимается им как разновидность институционального дискурса в виде системы «взаимно обусловленных индивидуальных действий субъектов образовательного процесса (учителя и учащихся), когда поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных» [там же]. Важнейшей составляющей таких действий исследователь считает дидактическую коммуникативную ситуацию, представляющую собой последовательность коммуникативных актов в процессе речевой интеракции во время занятия, которая непосредственно детерминирует эффективные средства самой интеракции участников, а также обеспечение определенного уровня эффективности воздействия инструктирующего на инструктируемых [там же].
При актуализации в коммуникации любого типа инструктирующих дискурсов вовлекаются инструменты семиотики и языковые (речевые) средства общения. Когда речь идет об обучении субъекта родному языку, родной речи и культуре своей страны и своего народа (нации, этноса), мы имеем в виду особый тип дидактического дискурса – лингводидактический дискурс. Закономерности этого типа дискурсоразвертывания изучались пока только в связи с обучением иностранных студентов и магистрантов русскому языку [6; 7; 19], с точки зрения прецедентности текстов, порождаемых в результате его актуализации [3], его аксиологической (оценочной) нагру-женности [2], включения иностилевых элементов в его «тело» [1], эффективности актуализации стратегий разворачивающегося внутри него диалога [10], его терминообразующих потенций и успешности апробации англоязычных лингводидактических терминов-заимствований в немецком языке [14]. Ряд закономерностей лингводидактического дискурса частично рассмотрены в двухтомной монографии Т.Н. Астафуровой и А.В. Олянича с точки зрения моделирования собственно процесса обучения иностранным языкам без специального акцента на его сугубо лингвистические особенности [4; 5].
Коммуникативная ситуация, разворачивающаяся в иноязычной среде, требующей особого когнитивного освоения и, соответственно, развитого умения понимания чужой иноязычной речи на слух, широкого спектра иноязычных компетенций, связанных с говорением, чтением и письмом, иногда – даже инокультурной мысленной активности, может быть освоена при помощи посредника, которому она хорошо знакома, посредника, способного передать обучаемому субъекту все возможные варианты и последствия ее развертывания. Речь посредника такого типа есть не что иное, как иноязычный лингводидактический дискурс . В то же время момент освоения иноязычной коммуникативной ситуации обучающимся субъектом включает его самого в пространство лингводидактического дискурса, делая равноправным участником интеракции.
Для нас иноязычный лингводидактический дискурс – это сложное лингвосемиотическое (знаковое) образование, в котором процесс интеракции имеет целью формирование иноязычных и инокультурных компетенций у обучаемого иностранным языкам и культурам и представляет собой информационный поток, состоящий из систем вербальных и невербальных иноязычных знаков. Этот поток направлен от инструктирующего к инструктируемому, при этом иноязычные знаковые системы осваиваются последним, а при их воспроизведении инструктируемым подвергаются корректировке инструктирующего, которая может использовать знаки языка, являющегося родным для инструктора и инструктируемого.
Дискурс как текст, погруженный в ситуацию общения, исполняет некую функцию или целый кластер функций, одна из которых является ведущей (основной, доминирующей), остальные (второстепенные) поддерживают реализацию ведущей функции и дополняют осуществление дискурсоразвертывания. В нашем случае ведущей функцией предлагается считать дидактическую функцию , под которой понимается трехчастный взаимосвязанный процесс, представляющий собой: 1) когнитивно-номинативное освоение инструктирующим информации об окружающей его действительности и ее фиксацию в сознании; при этом информация дана ему в концептуальнообразной форме – системе знаков, рефлектирующих эту действительность с учетом ее индивидуального восприятия инструктирующим; 2) оценку, селекцию и систематизацию зафиксированных инструктирующим знаков, которые он полагает наиболее важными для передачи инструктируемому; 3) использование результатов систематизации этих знаков для целей формирования компетенций инструктируемого в ходе общения в обучающем (образовательном) пространстве.
Исполнение данной функции в коммуникативном пространстве предполагает определение (вычленение) дискурсивных единиц, «обремененных» дидактической функцией. Такие попытки уже имели место в лингвистических исследованиях дидактического дискурса (см., например: [11; 15]). Интересной попыткой выявления таких единиц представляется статья Н.В. Дрожащих, в которой изучается дидактический дискурс средневековой Англии. Автор предлагает использовать в качестве единиц такого дискурса целую группу терминов – нарративные схемы, описательные и эпидейктические пассажи, повествующие о деятельности просветителей Англии, последовательности коммуникативных ходов (дескриптивы как характеристики-оценки монарха, просветителя, учителя; нарративы как описания деяний, служащих утверждению основ веры; регламентивы, то есть нормы истинного пути) [9, c. 46].
Характеризуя дидактический дискурс средневековых английских просветителей, исследователь фиксирует функциональное содержание выделяемых дискурсивных единиц: «Дидактический дискурс функционирует благодаря фиксации значений вокруг базового смысла, выраженного в многозначных предикатах tеёcan и lеёran – центральных для понимания семантики учения и образования в целом. Данные глаголы выражают директивную семантику – предписывать, направлять ум с помощью наставлений или доказательств, показывать путь, направление, советовать, проповедовать; семантику предложения – предлагать; аргументатива – учить догматам, преподавать религиозные учения, убеждать; репрезентатива – представлять, передавать знания, информировать. Многочисленные инструктивы-запреты, выраженные отрицательными формами глагола, связаны с нарушением дисциплины учащимися: нельзя подсматривать в книгу, в хоре нельзя смотреть на других, разговаривать, ходить по помещению, если не разрешает учитель» [там же, c. 47–48].
В целом одобряя данный – явно лингвосемиотический – подход к выделению единиц дидактического дискурса и к их типологиза-ции, все же отметим, что для обобщенной номинации знаков подобного рода, удовлетворяющих эпистемологическим требованиям и постулирующих непременное выделение единиц феномена таким образом, чтобы они содержали явные смыслоразличительные (дискриминирующие) признаки, методологически необходим некий зонтичный термин, генерализующий разнообразие функций, которые единицы исполняют в данном типе дискурса. Как представляется, таким требованиям всецело удовлетворяет термин дидактема .
Ранее он был введен литературоведами для фиксации некоторого текста, который в своей смысловой структуре содержал морализаторскую идею, идею регуляции человеческого поведения сообразно социальным (ин- ституциональным, сакральным) установлениям. Так, он использован азербайджанской исследовательницей Зюдабэ Агабалаевой [22] и казахским филологом-литератором Кул-Мухаммедом Мухтар Абрарулы [12] для описания нравоучительного характера притч аргентинского писателя-философа Хорхе Луиса Борхеса и португальского мыслителя Пауло Коэльо. Термин «дидактема» как отражение нравственного примера героев украинского эпоса в лирико-драматических поэмах Ивана Драча эксплуатируется в работах тернопольского литературоведа Татьяны Быдованец (см., например: [8]).
Наше представление о дидактеме – сугубо лингвистическое (лингвосемиотическое). Под дидактемой предлагается понимать информационную единицу инструктивного воздействия, представляющую собой сложный лингвосемиотический (знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно освоенных инструктирующим субъектом концептов и образов окружающего мира, отобранных и систематизированных им с точки зрения образовательного и утилитарного потенциала этих концептов и образов, который после такой когнитивной обработки транслируется в ментальное поле инструктируемого субъекта в ходе дидактической интеракции с целью обучающего воздействия .
Процесс общения в рамках образовательной (обучающей) ситуации может быть представлен в виде разворачивающейся во времени и в пространстве последовательности дидактем сугубо семиотически (визуально / аудиально) и дискурсивно (преимущественно вербально). В рамках теории дидактического дискурса дидактема занимает центральное место и может быть обнаружена в таких его видах, как лингводидактический и иноязычный лингводидактический.
Поскольку дидактема исполняет функцию эпистемологической единицы, то есть средства или инструмента лингвистического описания, то естествен вопрос о ее предельности / непредельности и о ее воспроизводимости / невоспроизводимости в соответствующем коммуникативном пространстве. Так как дидактема относится к классу единиц воздействующего типа, ее законченность может измеряться самим результатом образовательного импакта, то есть реакцией воздействуе-мого (инструктируемого) и убежденностью воздействующего (инструктора) в том, что цель его воздействия достигнута (транслированные знания, умения и навыки когнитивно освоены инструктируемым, о чем получено реальное подтверждение).
Специфика дидактемы как комплексного знака состоит в его триадном характере. С одной стороны, это лингвистический знак или совокупность лингвистических знаков. С другой – это коммуникативная единица, актуализирующая в дискурсе обучения информацию, семантически в ней «зашитую» и когнитивно освоенную объектом дидактического воздействия. Третий функциональный аспект дидактемы как лингвосемиотического и коммуникативно-информационного образования – корректное отражение интенций субъекта дидактического воздействия.
Исходя из тезиса о знаковом (семиотическом) функциональном характере дидакте-мы, ведущим принципом ее выделения представляется именно лингвосемиотический подход, позволяющий выявить группы дидактически значимых концептов и образов, рефлек-тированных соответствующими знаками, сконфигурированными в определенные системы и взаимодействующими друг с другом сообразно связям разного качества и разной направленности. Последнее обстоятельство дает возможность типологизации дидактем как эпистемологических единиц рассматриваемого дискурса.
Базовой функцией дидактемы является передача и фиксация в сознании объекта когнитивного воздействия представления об образовательно / утилитарно значимых концептах и образах мира и его участков. В связи с этим исполнение данной функции в дидактическом коммуникативном пространстве может послужить основанием для типологи-зации дидактем.
Лингвосемиотический подход к типоло-гизации, объяснительная сила и типологизирующий потенциал которого, прежде всего, заключаются в возможности определить наличие / отсутствие вербальной составляющей вовлеченного в коммуникацию комплекса знаков, позволяет уже по этому параметру выде- лить три обширных гипертипа дидактем – невербальные (сугубо семиотические) ди-дактемы, вербальные (лингвосемиотические) дидактемы и этносоциокультурные дидактемы, носящие вербально-невербальный характер (дидактемы-этнемы). Каждый гипертип включает в себя группу типов ди-дактем, каждая из которых состоит из единиц разной степени функциональности, отвечающих за исполнение значимых инструктивных действий и актуализируемых в дискурсе:
-
– как знаки, символы, иконы и эмблемы [18];
-
– знаки и номинации разных уровней языка и речи;
-
– знаки и номинации этно- и социокультурного характера.
Первые выделяются в соответствии с их дискурсивной значимостью как рефлексии знаков реальности; вторые – как знаков языка; третьи – как знаков культуры. Типология дидактем может быть представлена следующим образом (см. рисунок).
Заметим, что апплицированные к представленной типологии дидактем принципы уже при первой (приблизительной) попытке ее структурации, во-первых, полностью снимают ту аморфность скопления знаков, о которой говорил Ю.М. Лотман 1, и, во-вторых, обеспечивают прозрачность его же тезиса о взаимной мотивационной соотнесенности коммуникативных пространств инструктора и инструктируемого.
Ограниченные рамки статьи не позволили нам подробно описать процесс актуализации выделенных типов дидактем, дать характеристику их значимым семиотическим свойствам, взаимосвязям внутри иноязычного лингводидактического дискурса и особенностям выполнения ими своих специфических функций. Сочтено целесообразным предпринять такой анализ в отдельной публикации, где подробно будут рассмотрены и исследованы все выделенные типы дидактем в рамках англоязычного дидактического дискурсоразвертывания.
Список литературы Типология дидактем как единиц иноязычного лингводидактического дискурса
- Адаева, О. Б. Иностилевые элементы в лингводидактическом научном тексте/О. Б. Адаева//Филологические науки: Вопросы теории и практики. -2013. -№ 1. -С. 17-21.
- Адаева, О. Б. Полиинтенциональные оценочные высказывания в лингводидактическом дискурсе/О. Б. Адаева//Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Серия «Филологические науки». -2013. -№ 1. -С. 19-23.
- Адаева, О. Б. Функционирование прецедентных текстов в лингводидактическом дискурсе/О. Б. Адаева//Филологические науки: Вопросы теории и практики. -2012. -№ 7, ч. 1. -С. 22-25.
- Астафурова, Т. Н. Лингводидактика в высшей школе (неязыковой вуз)/Т. Н. Астафурова, А. В. Олянич. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. -552 с.
- Астафурова, Т. Н. Лингводидактика в высшей школе (языковой вуз)/Т. Н. Астафурова, А. В. Олянич. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. -594 с.
- Балыхина, Т. М. Лингводидактическая теория ошибки и пути преодоления ошибок в речи иностранных учащихся/Т. М. Балыхина, О. П. Игнатьева. -М.: Изд-во РУДН, 2006. -195 с.
- Балыхина, Т. М. Коммуникативный портрет преподавателя русского языка: профессионально-педагогическая речь как лингводидактический дискурс/Т. М. Балыхина, О. В. Харитонова. -М.: Изд-во РУДН, 2006. -238 с.
- Бiдованец, Т. Лiричне начало драматичних поем Iвана Драча/Т. Бiдованец//Науковi записки ТНПУ. Серiя «Лiтературознавство». -2012. -№ 6. -С. 151-161.
- Дрожащих, Н. В. Лингвистические структуры в диахроническом образовательном дискурсе Англии/Н. В. Дрожащих//Вестник Тюменского государственного университета. Серия «Филология». -2012. -№ 1. -С. 43-48.
- Коженевска-Берчинъска, И. Успешность диалога в лингводидактическом дискурсе/И. Коженевска-Берчинъска//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6, Университетское образование. -2005. -№ 8. -С. 73-76.
- Комина, Н. А. Организационные параметры учебного дискурса в ситуации коммуникативно-ориентированного обучения языку/Н. А. Комина. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://tverlingua.ru/archive/004/04_2_1.htm. -Загл. с экрана.
- Кул-Мухаммед, М. А. Литература -дело чести: интервью сетевому журналу REFDB.RU/М. А. Кул-Мухаммед. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.refdb.ru/look/1802206.html. -Загл. с экрана.
- Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства/Ю. М. Лотман. -СПб.: Акад. проект, 2002. -543 с.
- Лысикова, И. В. Англоязычные педагогические и лингводидактические термины в современном немецком языке: структура, семантика, прагматика: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.04/Лысикова Ирина Владимировна. -М., 2012. -18 с.
- Маркович, А. А. Дискурс: определения, история возникновения, типология, подходы к изучению дискурса/А. А. Маркович//Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. -Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -Вып. 5. -С. 6-18.
- Олешков, М. Ю. Моделирование коммникативного процесса/М. Ю. Олешков. -Нижний Тагил: Изд-во НТГСПА, 2006. -336 с.
- Олянич, А. В. Презентационная теория дискурса: дис. д-ра филол. наук: 10.02.19/Олянич Андрей Владимирович. -Волгоград, 2004. -607 с.
- Пирс, Ч. С. Избранные философские произведения/Ч. С. Пирс. -М.: Логос, 2000. -448 с.
- Синельникова, Л. Н. Признаки дискурсивной матрицы гуманитарного пространства нового века/Л. Н. Синельникова//Политическая лингвистика. -2009. -№ 3. -С. 56-68.
- Синельникова, Л. Н. Современный научный дискурс (рассуждения с пристрастием)/Л. Н. Синельникова//Информационный Вестник Форума русистов Украины. -2003. -Вып. 6. -С. 3-15.
- Синельникова, Л. Н. Учимся учить (из опыта дистанционного обучения магистрантов)/Л. Н. Синельникова//Вiсник ЛНУ iменi Тараса Шевченка. -Луганск: Вiд-во ЛНУ iменi Тараса Шевченка, 2010. -№ 2 (189). -С. 145-151.
- A abalayeva, S. Do malar arasinda ögeylik a risi publisistika haqqinda qeydl r/S. A abalayeva//DBDÜŞÜNCLR (Мысль Азербайджана). -Электрон. текстовые дан. -2008. -№ 1. -Режим доступа: http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=552. -Загл. с экрана.
- Coleman, H. Society and the Language Classroom/H. Coleman. -Cambridge: Cambridge University Press, 1996. -240 p.
- Couturier, M. Objection, What subject?, E-rea [En ligne], 2.2 | 2004, mis en ligne le 15 octobre 2004, consulté le 01 août 2013. -Electronic text data. -Mode of access: http://erea.revues.org/428. -Title from screen. - DOI: 10.4000/erea.428
- Dalton-Puffer, Ch. Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms/Ch. Dalton-Puffer. -Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2007. -330 p.
- Dijk, T. A. van. Specialized Discourse and Knowledge/T. A. van Dijk. -First draft, Jan., 2001. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.discourses.org. -Title from screen.
- Kramina, I. Linguo-Didactic Theories Underlying Multipurpose Language Acquisition/I. Kramina. -Riga: University of Latvia, 2000. -224 p.
- Schifrin, D. Approaches to discourse/D. Schifrin. -Blackwell, 1995. -470 p.
- Smit, U. English as a Lingua Franca in Higher Education: A Longitudinal Study of Classroom Discourse. -Berlin; N. Y.: Mouton de Gruyter, 2010. -464 p.
- Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching/H. H. Stern. -Oxford: OUP, 1983.
- Stevens L. P. Locating the Role of Critical Discourse Analysis/L. P. Stevens//An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education/ed. by R. Rogers. -Mahwah; New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2004. -Chap. 9. -P. 248.
- Žogla, I. Didaktikas teorijas un jēdzieni: salīdzinošais aspects (Comparative Study of Didactical Theories and Notions)/I. Žogla//Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis (Issue of the Academy of Science). -2001. -Vol. 55, № 1/2. -Р. 20-25.
- Žogla, I. Didactics in Changing Education/I. Žogla//ATEE Spring University. Decade of Reforms Achievements, Challenges, Problems. -Riga: SIA Izglitibas soli, 2002. -Р. 35-42.