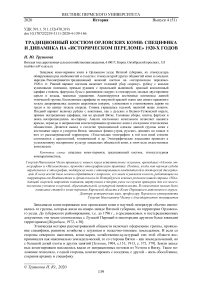Традиционный костюм орловских коми: специфика и динамика на "историческом переломе" 1920-х годов
Автор: Трушкова И.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Этнокультурные и демографические процессы
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Западные коми-пермяки жили в Орловском уезде Вятской губернии, их этнокультура обнаруживала ряд особенностей и сходств с этнокультурой других общностей коми и соседних народов. Рассматривается традиционный женский костюм на «историческом переломе» 1920-х гг. Ранний вариант костюма включает головной убор «сороку», рубаху с косыми кумачовыми поликами, прямым рукавом с продольной вышивкой, красный косоклинный сарафан с поясом, фартуком, бусы с раковинами «каури» и стеклярусом, медные двусторонние серьги и кольца, накосные украшения. Анализируются костюмные комплексы данной этнической группы. Косоклинные сарафаны из покупной красной ткани или синего крашеного холста декорировались зеленым шерстяным шнуром, уложенным в стилизованное дерево на груди и по центру подола спереди. Спинка украшалась тесьмой, нашитой выше лопаток. Поздний вариант включал рубахи с кокетками, как у русских в Велико-Устюжской округе, прямые пестрядинные сарафаны, как на средней Вятке. Головные уборы, платки, фартуки и пояса воспроизводились по-старому. Анализ костюмных комплексов позволяет выявить ареалы, периоды и направления контактирования орловских коми с соседними этническими общностями. Делается вывод о сходстве традиционной одежды данной группы коми с костюмами мари и удмуртов Вятки, западных финно-угров, русских, живших на западе и юге от рассматриваемой территории. «Текстильная этнография» в той или иной степени соотносится с археологией, топонимикой и др. Этнографические изыскания приводят к усложненному восприятию культур локальных общностей коми, в томч исле ихкостюмных комплексов.
Западные коми-пермяки, традиционный костюм, этнокультурная компаративистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147246328
IDR: 147246328 | УДК: 391.1. | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-139-146
Текст научной статьи Традиционный костюм орловских коми: специфика и динамика на "историческом переломе" 1920-х годов
Георгий Николаевич Чагин принимал у нашего курса вступительные экзамены, преподавал «Основы этнографии» и «Музееведение», проводил этнографическую практику. Позднее, когда моя научная судьба определилась в этнографии, поддержал меня с оппонированием кандидатской и докторской диссертаций. К нему всегда было можно обратиться с вопросом, его знали и уважали коллеги, работающие на территории от Владивостока и Архангельска до Петербурга и южных регионов нашей страны. Обладающий энергией, широкими знаниями, виртуозным в теории умом он служил примером для его многочисленных учеников в научной, образовательной, культурной деятельности. В совместных планах было написание статей о коми-пермяках Кировской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
Доктору исторических наук, профессору Пермского университета
Георгию Николаевичу Чагину с благодарностью посвящается
Западными коми-пермяками или орловскими коми в научной литературе обычно именовались те группы, которые жили на северо-западе Вятской губернии, на территории Орловского уезда. До губернского районирования, т.е. до 1796 г., в средневековых и постсредневековых документах эти земли соотносились с Лузской Пермцей и некоторыми другими более южными территориями [ Жеребцов , 1972, с.30].
Этническая история рассматриваемой общности включает оформление группы, проявление специфики, развитие хозяйства с плужным и подсечно-огневым. земледелием. И если со стороны северного населения, коми-зырян, хозяйственно-культурный тип этой области воспринимался как максимально земледельческий, то со стороны Вятки – как земледельческий, но с большой долей охоты и других занятий [ Зеленин , 1904, с.151; 1913, с. 375, 379]. Земли западных коми-пермяков находились вдали от миграционных потоков из Устюга в Вятку. Такое положение позволяло, с одной стороны, контактировать с соседями, с другой – жить обособленно, сохраняя архаику и специфику.
При советской власти началось изучение малых этнических образований. Вятским НИИ краеведения и Вятским педагогическим институтом проводилось анкетирование населения, в том числе по программам КИПС, была организована экспедиция в указанный регион, материалы которой, как и анкетирования, в наши дни лишь фрагментарно сохранились в разных собраниях – в фондах Кировского краеведческого музея, Центрального государственного архива Кировской области, Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН и др.
В 1920-х гг. происходили судьбоносные разъединительные и объединительные процессы и у орловских коми, северная часть которых, попав в состав Республики Коми, стала «зыряни-зироваться» [ Плесский, 1926, с.111]. Экспедиция Кировского областного краеведческого и Коми республиканского музеев в 1996 г. обнаружила материалы мемориального и фрагментарного бытования этнокультуры орловских коми на территории Кировской области и вследствие «зырянизации» бытования некоторых элементов культуры орловских коми в рамках лузско-летского варианта культуры коми-зырян как некий субстрат в суперстрате.
Говоря об историографии изучаемого вопроса, следует начать с упоминания исследования Н. А. Добротворского в XIX в. Ему принадлежит описание быта всех крестьян Орловского уезда Вятской губернии, в том числе коми. Последним посвящен очерк «Пермяки» [ Добро-творский , 1883].
Выдающийся этнограф Д. К. Зеленин констатировал распространенное в начала XX в. представление о коми в данном регионе: «В Орловском уезде, близ дер. Бутырок, есть серный ключ. – В уезде живут также "пермяки" (зыряне), более 5 тыс., главное их занятие охота» [ Зеленин , 1904, с.151]. Во второй половине XX в. комплекс работ по теме пополнился исследованиями, в которых, в частности, освящаются процессы оформления групп коми начиная со Средневековья [ Жеребцов , 1972, 1996, 1998]. По материалам археологических раскопок изучалось население южных районов Республики Коми [ Савельева , 1972]. Этнографии коми-зырян лузско-летской группы посвящена работа Ю.И. Бойко [ Бойко, 2018].
Источниковая база статьи включает письменные свидетельства, содержащиеся в статистических документах, анкетах и материалов архивов Вятского НИИ краеведения, музейных собраний, как уцелевших в период репрессий музейщиков, после экспедиций 1920-х гг., так и полученные в этнографических экспедициях в Кировской области в 1990–2017 гг.
На основе указанных материалов можно реконструировать картину бытования и выявить территориально-временную специфику уникального, принадлежавшего западным коми-пермякам, орловским коми, традиционного костюмного комплекса.
Как известно, особенность этого костюмного комплекса была отмечена еще Сирелиусом в 1907 г. (Кarhu, 1980, № 88). Но им несколько неверно были аннотированы фотоматериалы – Пермской, а не Вятской губернии. В северной части Орловского уезда Вятской губернии, а ныне в Мурашинско-Летском пограничье, жили коми особой группы. «...Эти коми у нас пермяками называются...» (Архив Кировского... Ф.2. Оп. 1. Д. 257. Л. 5). В 1920–1930-е гг. они еще сохраняли свой язык, сходный с коми-пермяцкими диалектами, и особенности костюма. Русское население Мурашинского района отмечает: «Коми очень любили желтый цвет в костюме, обязательно на юбку желтые ленты нашивали. У них свои наряды были ... всегда ходили в лаптях, рукавицы узорчатые были, и у нас узоры пошли от них - они приезжали продавать эти ру- кавицы в Мураши...»; «... Богато жили они ... одеждой отличались, бурки из оленины, цветов больше, коми из ивы свои лапти плели, красиво...». Сами коми про свою одежду говорят так: «...Ой, сечас я вам про коми лопоть расскажу – красиво, ярко надевались раньше...» (Архив Кировского... Ф.2. Оп. 1. Д. 257. Л. 6).

Рис. 1. Традиционный женский

Рис. 2. Бусы с раковинами «каури»
костюм орловских коми

Рис. 3. Фрагмент кроя нагрудной части женской рубахи
Как всегда, маркер локального костюмного комплекса – женская одежда. Основу женского костюма составляла рубаха, оригинально скроенная и украшенная. Она шилась из двух частей. Верхняя часть, как обычно, была из более тонкого ситца. Прямое полотнище рукава пришивалось к краю прямоугольного куска холста, представляющего собой полочку. У узкого ворота-стойки разрез по центру, к нему и к воротнику подкраивается красная сатиновая материя, из нее же нашивка на плече. По вороту, на рукаве – вышивка: мелкие растительно- геометрические узоры темно-красным шелком. Застежка на вороте – на мелкую пуговицу из желтого металла кустарного производства [Трушкова, 2005, с. 402–403, илл. 178].
Такую рубаху носили с сарафаном из крашеного холста или покупного материала. Сарафан широкий, косоклинный, наплечные лямки также широкие. У нагрудного разреза и по подолу – фигурные нашивки тесьмы, на спине, в наплечной части, – нашивки позумента. Фартук и пояс также были яркими, контрастными. Фартук – из бирюзово-зеленого ситца, прямой, чуть сборен, у пояса – обшивки; пояс – из шерсти фиолетово-желтых, фиолетово-красных сочетаний.
На голове замужние женщины носили головной убор типа «сороки». Сходство головных уборов раннего варианта с марийской «сорокой» заключалось в идентичности типов деталей (выделялись достаточно четко очелье, крылья и позатыльня), а также в двучастном делении очелья и выделении приемами вышивки центрального прямоугольного пространства в верхней части. Но от марийской «сороки» рассматриваемый головной убор отличался закругленным верхом очелья, вертикальными, а не горизонтальными полосами вышивки на позатыльне, некоторыми видами техники вышивания и отсутствием каркаса в налобной части. От летской «сороки» данный вид головного убора отличался рудиментарностью крыльев-завязок, у них не было больших кумачовых завязок с бахромой по низу.
Отмечено существование девичьего головного убора: «...Девки раньше головедец носили, из мелкого бисера... носили как колючка на голову венок, а наряд был такой же...» Сохранились воспоминания о том, что при комплектовании предметов одежды в единый костюм они должны были отличаться друг от друга по цвету [ Трушкова, 2005, с. 403–404].
Из межсезонной одежды был распространен «бекеш» из черной ткани, но с ярким подкладом. По талии его сильно присбаривали сзади. Сарафан и передник были видны из-под него. «Бекеш» носили и мужчины, и женщины. Надевали на свадьбы, на танцы.
Повседневная одежда была в основном холщовая. Мужские рубахи – пестрядинные или «простые». У мужчин пояс «юкас» был шире, чем у женщин, и кисти больше. На чулки надевали портянки [ Трушкова, 2005, с.404].
С большой долей вероятности в ходе летской экспедиции 1926 г. были приобретены и переданы в Вятский публичный музей специфичный женский головной убор «волосяник», простеганный и зашитый в круг и имевший отогнутые края, кожаный кошелек с медными пуговицами, в котором хранили кремень и трут. По типу креплений этот кошель должен был прикрепляться к поясу. Хранятся в музее и бусы из стекляруса с раковинами «каури». Сохранилось кольцо из желтого металла со скромным украшением, которое было приобретено у коми Слуд-ской волости Орловского уезда. Имеются также медные серьги с двусторонними стеклянными вставками (Архив Кировского…, коллекция тканей).
В коллекцию украшений данной этнической группы входили и накосное украшение в виде распушенной кисти из пестрых шерстных ниток и с четырьмя медными пластинками у общей завязки, бусы из бледно-зеленого стекла.
Более новый женский костюмный комплекс датируется началом XX в. и более поздним временем. Он включает пестрядинный сарафан, рубахи из покупного яркого ситца, «сороку», повязанную покупным платком. Пояс оставался прежним, из шерсти желтого и фиолетового цвета. Имелись также заготовки для рубах с косыми поликами (Архив Кировского... Ф.2. Оп. 1. Д. 257. Л. 8).
В 1920-е гг., во время «исторического перелома», у орловских коми сосуществовали обе формы традиционного костюма. Позднее стали активно входить в обиход комплекты «юбка с кофтой», но в соответствующей (яркой) цветовой гамме.
В наши дни традиционная одежда, головные уборы хранятся как вещи, доставшиеся от родителей. Из холстов шьются хозяйственные сумки, не прекращено производство варежек, чулок из домашней шерсти, причем делается это иначе, чем в Афанасьевском районе (Архив Кировского... Ф.2. Оп. 1. Д. 257. Л. 8).
Небезынтересны некоторые этнокультурные построения из предметов традиционной одежды западно-пермяцкой этнической группы и соседних этнических образований. Своеобразными маркерами их выступают женские головные уборы «сорока», крой поликов на женских рубахах, крой и декор сарафанов раннего вида.
«Сороки» в более позднем варианте традиционного костюма указанной этнической группы по форме и декору схожи с марийскими женскими головными уборами, отмеченными на западе Вятского края, от Котельнического до Яранского уездов. Очелье почти полностью идентично – те же растительно-геометрические узоры красно-кирпичного цвета с дополнениями, то же обрамление по краям. Сходным образом оформлялись так называемые крылья, максимальное различие в расположении орнаментальных рядов зафиксировано на позатыльне: в коми вариантах они вертикальные в центре, на марийских– горизонталые в нижней части. Закругленный верх очелья «сорок» у западных коми-пермяков – как и в русских головных уборов в Тверской губернии [ Шмелева,Тазихина, 1970, с.118]. В оформлении головных уборов в более позднем костюмном комплексе произошла некоторая стилизация.
Рубахи женские из раннего комплекта по крою и декору отличается не только от рубах коми, но и от русских, удмуртских, марийских и татарских. Полики, скроенные по косой, и выполненные из контрастного материала (красного кумача), имели аналоги в южнорусских вариантах костюма [ Пармон, 1994, с. 222–223].
Еще один показательный пример. Некоторые виды славянских жилищ на Вятке археологи также выводят из южнорусских регионов. Так полуземлянки, жилые и хозяйственные оборонительные клети свидетельствуют о живучести домонгольских традиций крепостного зодчества на Средней Вятке, а также о связях с Южной Русью, где аналогичные сооружения строились в XII – XIII вв. [ Макаров , 2001, с. 16]. Однако сходные жилищные конструкции наблюдались и на археологических памятниках предков финно-угров в центре европейской части России, датированных железным веком, Средневековьем [Археология СССР, 1987, с. 70, 71]. Иначе говоря, некоторые культурные черты, обычно соотносимые с южнорусскими реалиями, связывать только с ними не всегда можно.
С учетом большой распространенности южнорусских костюмов по сравнению с севернорусскими вариантами можно предположить, что в Средневековье в некоторых комплексах севернорусских рубах могли присутствовать полики, скроенные по косой. Как следы их можно воспринимать контрастные красные вставки у горловины вепсской женской рубахи в Карелии (Шелтозерский вепсский краеведческий музей). Также сравнение можно провести с костюмами западных финнов.
Нагрудный разрез женских рубах орловских коми сравним с оформлением марийской рубахи, обнаруженных в Тужинском районе Кировской области. Орнаменты на них выполнены шелком красно-кирпичного цвета, как у мари и удмуртов [ Трушкова , 2005, с. 383, 502, 363].
В сарафанах специфичными являются крой и цветовая гамма. Красная покупная ткань и однотонный синий холст говорят о достаточной зажиточности населения, их использовавшего. Воспроизведение косоклинных сарафанов из красного кумача обнаружено и у язьвенских коми [ Чагин, Черных, 2002, с.20]. Зеленым галуном выложен орнамент – тоже архаика. По подолу в центре символ – как у марийцев. Стилизованный декор наспинной части сарафана также связан с традицией, существовавшей у вятских мари [ Трушкова , 2005, с.383,394].
На территории Летки в костюмном комплексе с «сорокой» зафиксирован косоклинный сарафан с «гвоздичной тесьмой по центру». Такие сарафаны встречались не только у русских, но и в с. Кай, а также в вятско-костромском пограничье, где они сохранились в комплексе с головными уборами «кичка», «кика», аналогичными уборам чердынских коми-пермяков. Очевидно, эти явления – своего рода атавизмы некогда достаточно широко распространенного коми-пермяцкого этнокультурного массива.
При анализе этнографических материалов, касающихся костюма орловских коми в 1920-х гг. следует осуществлять сравнение не только в пространстве, но и во времени. Изучение позднее появившихся деталей рубах и декора позволяют провести немало аналогий с костюмами соседей русских в Лальско-Лузской и Подосиновской округе, а также в районе Великого Устюга. Речь идет о рубахах с кокетками, прямыми рукавами, сборкой у запястья, а также с прямыми сарафанами и фартуками. Особенности костюма сохранялись лишь в декоре и подборе цветовой гаммы. Как правило, у орловских коми она была более яркой.
Анализ этнографических материалов позволяет определить место орловского костюмного комплекса среди костюмных комплексов вятской и коми территорий. Рассматриваемый комплекс традиционной одежды представляется неким реликтом в народной одежде. Кроме того, в нем обнаруживаются аналоги орнаментов одежды живших южнее марийцев Котельнической земли, сходство с одеждой коми-пермяков Пермской губернии, в том числе коми-язьвинцев. Стилизация костюмов в начале XX в. шла сходным путем со стилизацией костюмов живших по соседству русских Лальско-Лузской и Велико-Устюжской округи.
Костюмный комплекс западных коми-пермяков, или орловских коми, будучи неповторимым, отражает многовековую историю большой территории от вологодских рубежей до склонов Урала и от побережья Северного ледовитого океана до вятских просторов. Некоторые комплексы стали субстратом в суперстрате других. Этническая территория орловских коми – своеобразный анклав и для зырян, и для пермяков. И 1920-е гг. для нее – перекресток, когда наблюдались и старые и новые явления в этнокультурах. Изучение таких географических и хронологических перекрестков важно для воссоздания полной картины этнических процессов и определения их хода.
Список литературы Традиционный костюм орловских коми: специфика и динамика на "историческом переломе" 1920-х годов
- Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука, 1987. 512 с.
- Бойко Ю.И Традиционная культура прилузских коми (конец XIX - первая половина XX вв.) // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань: Б.и., 2018. Т. 38, №1. 192 с.
- Добротворский Н.А. Пермяки: Бытовой и этнографический очерк // Вестник Европы. 1883. Т, кн. 3. С. 229-264; Кн. 4. С. 544-580.
- Зеленин Д.К. Кама и Вятка: Путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Юрьев: Тип. Эд. Бергмана, 1904. 180 с.
- Зеленин Д.К. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течением позднейшей великорусской колонизации. СПб.: Тип. Орлова, 1913. 557 с.