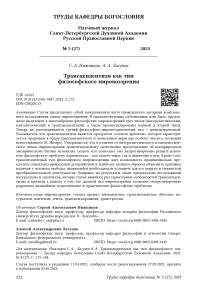Трансцендентизм как тип философского мировоззрения
Автор: Нижников С.А., Лагунов А.А.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой завершающую часть проведенного авторами комплексного исследования типов мировоззрения. В предшествующих публикациях ими было предложено выделение в многообразии философских мировоззрений трех типов (натуралистический, пантеистический и трансцендентный), а также проанализированы первый и второй типы. Теперь же рассматривается третий философскомировоззренческий тип — трансцендентный. Указывается, что трансцендентизм является продуктом «осевого времени», которое характеризуется прорывом в сферу трансцендентного и появлением веры как особого гносиса, познания непостижимого (К. Ясперс). Утверждается, что в отличие от натуралистического и пантеистического типов мировоззрения трансцендентизму свой ственно представление об иноприродном эмпирическому бытию источнике сущего, что позволяет ему непротиворечиво решить извечную философскую проблему первоначала — как самого мира, так и движения в нем. Кроме того, трансцендентный тип философского мировоззрения дает возможность принципиально преодолеть социальноприродный детерминизм и наиболее полным образом объяснить причины наличия у человека свободы, являющейся необходимым условием для его морали и творческой преобразовательной деятельности. Опираясь на результаты своих предыдущих исследований натурализма и пантеизма, авторы статьи выявили ряд характерных особенностей трансцендентизма и пришли к выводу о том, что данный тип мировоззрения позволяет непротиворечиво разрешить важнейшие теоретические и практические философские проблемы.
Мировоззрение, «осевое время», имманентное, трансцендентное, Абсолют, натурализм, пантеизм, теизм, трансцендирование, трансгрессия
Короткий адрес: https://sciup.org/140312236
IDR: 140312236 | УДК: 14:165 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_172
Текст научной статьи Трансцендентизм как тип философского мировоззрения
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Alexey Aleksandrovich Lagunov
E-mail: ORCID:
Вступление
Концептуальный анализ натуралистического мировоззрения показал, что, находясь в методологических рамках как материализма, так и позитивизма, невозможно логически непротиворечиво и доказательно выявить онтологический источник сущего, установить причину движения, сформулировать теодицею, обосновать мораль и гуманизм1. Все это неосуществимо без привлечения метафизического методологического инструментария, опирающегося на центральную категорию Единого (или Абсолюта), необходимую для адекватного решения фундаментальных философских проблем. В процессе разработки данной категории в истории философии и духовной культуре оформлялось пантеистическое мировоззрение, однако и оно оказалось внутренне ограниченным, не сумев преодолеть иррациональные моменты в понимании Абсолюта2. Разумеется, всякое представление об абсолютном для относительного человеческого разума всегда будет находиться вне сферы его компетенций, и в этом смысле Абсолют невыразим в качестве рациональной категории, настоятельно требуя от познающего субъекта акта трансцендирования — акта, направленного за пределы эмпирического мира и требующего определенной философской веры в сверхрациональное. Однако представители многообразных разновидностей философского пантеизма (натуралистического, мистического, диалектического, экзистенциального), опираясь на сугубо рациональные способы познания, не сумели преодолеть ограниченность своей онтологии, — обосновать бытие Абсолюта как высшего блага и построить теодицею, осуществить прорыв в сферу трансцендентного. Здесь мы имеем основания говорить о существовании определенной границы для логико- рационального познания, которую представители пантеизма так и не решились перейти ввиду как недостатка специальных методологических средств, так и непрекращающихся попыток онтологически связать Абсолют с миром, вплоть до отождествления с ним. Между тем, открытое признание «неотмирности» Абсолюта, выведение его за пределы сущего способствовало не только решению пантеистической апории, но и становлению нового типа мировоззрения — трансценден-тизма. Так был разрублен гордиев узел, сформировавшийся в античной мысли, — при помощи библейской традиции.
Гносеологическое трансцендирование
Непосредственное значение понятия трансцендентного заключает в себе представление о выходе субъекта за какие-либо объективно положенные ему пределы и о его дальнейшем постижении (достижении) некоей отличающейся от чувственно- предметной реальности области. Осуществляя этот выход, субъект трансцендирует: или усваивая трансцендентное и переводя его тем самым в сферу своего имманентного, или приобщаясь к трансцендентному, тем самым некоторым образом вводя собственное имманентное в сферу трансцендентного. Исходя из этого, мы можем выделить два различающихся между собой аспекта данного процесса, обусловленные теми значениями, которые мы придаем понятию трансцендентного.
Чаще всего мы сталкиваемся с трансцендированием, которое назовем гносеологическим. Здесь акт трансцензуса связан с когнитивной деятельностью, в которой всегда есть место трансцендентному неведомому, требующему от познающего субъекта своего постижения, усвоения, а, стало быть, имма-нентизации в сугубо гносеологическом смысле. С. Л. Франк всякий неизвестный еще нам предмет знания называл «имеющимся в знании моментом трансцендентного», моментом, поскольку это трансцендентное «в последнем итоге все же доступно знанию, — цель хотя непосредственно и выходящая за пределы известного, иначе она и не была бы целью, но вместе с тем цель достижимая»3. Исходя из различий познавательной интенции, философ выделял две формы гносеологического трансцендирования: « во-вне» и « во-внутрь» ; в другое « Я» ( Я-ты ) и в «чистую объективность», в «реальность духа »4 , открывающуюся нам в глубинах сознания .
С. Л. Франк, с одной стороны, дистанцировался от классического пантеизма, с другой — продолжал признавать основные его принципы, полагая лишь, что этот тип мировоззрения требует определенных методологических уточнений. Называя себя христианским мыслителем, он на деле модифицировал пантеизм, разработав систему панентеизма, в котором «онтология веры» превратилась в «онтологию знания»5. Одна из причин этого — держание за рассудок, неспособность открыться вере, ужас от возможности потерять себя (свое эгоистическое «Я») для того, чтобы обрести вечность.
Над проблемой трансценденции много и глубоко размышлял М. Хайдеггер, философствование которого С. Л. Франк первоначально недолюбливал, определяя его как «духовный тупик»9. Однако впоследствии он пересмотрел свою точку зрения, сделав следующее признание: «…под конец моей жизни я узнаю, что величайший немецкий мыслитель, двигаясь своим собственным путем, приходит к тому, что как основная интуиция, почти как откровение, вот уже сорок лет руководит всем моим творчеством… Хайдеггер в своей манере изобразил эту интуицию гораздо проникновеннее и значительнее, чем это удалось мне самому»10. М. Хайдеггер так же, как и С. Л. Франк, был озабочен дуализмом бытия и сущего — «онтологической дифференциацией» и возникающей из нее онто-теологией11. Он осознавал ее необходимость, но остановился на понимании трансценденции как результата трансценди-рования не к Абсолютному Благу, а к Ничто, в результате чего его охватывал «ужас», а не благодать. Поэтому Франк, несмотря на сделанное им признание о совпадении «основной интуиции», устанавливает и принципиальное отличие философствования немецких экзистенциалистов как от своего, так и от философствования многих других представителей русской религиознофилософской классики: «Я всегда спрашиваю: почему страх — а не доверие? — пишет он в письме к Л. Бисвангеру. — Почему страх должен быть “онтологически” фундированным состоянием, а доверие — уже какой-то проклятой “теологией”?»12 Философ отмечает при этом, что «…вся немецкая философия после Гегеля, Шеллинга и Баадера (если не говорить о безразличных к этому умах) страдает настоящим антирелигиозным комплексом. Шопенгауэр, Фейербах, Штирнер, Ницше, Эд. фон Гартман вплоть до Николая Гартмана и Хайдеггера. Даже Шелер, начало которого было таким многообещающим, заканчивает воинствующим атеизмом. Причем этот комплекс, как и полагается, связан с совершенно невероятным — если учесть немецкую основательность — религиозным дилетантизмом, невежеством и дерзостью (лучше всего тут еще открытая мужественная борьба Ницше)»13.
Таким образом, отталкивающиеся от И. Канта выдающиеся немецкие мыслители так и не сумели — или же не захотели — перейти черту «гносеологического трансцендирования» и обрести трансцендентное в горизонте онтологии, причем считали это своей заслугой. Для трансцендентного же мировоззрения сверхсущее должно восприниматься не только как Ничто, но и как Нечто, а для этого уже необходима вера в Него, вера, которая согласно буддистской мудрости есть «главное богатство» человека14.
Онтологическое трансцендирование
Вполне ясно, что гносеологическая трансценденция не является отличительной особенностью трансцендентизма как типа мировоззрения, поскольку она свой ственна и пантеистическим философским концепциям. Человек по своей природе ограничен, условен, относителен, и всегда есть то, что находится за пределами его познания; однако он способен раздвигать наличные когнитивные границы, расширяя сферу познанного и имманентизируя «моменты трансцендентного», выражаясь языком С. Л. Франка. Специфику трансцендентизма определяет другое, более «интенсивное» значение понятия трансцендирования, предполагающее достижение субъектом (в той или иной мере) самого трансцендентного, достижение, выражающееся в приобщении субъекта к нему, обусловливающем трансцендирование имманентного (а не имманентизацию трансцендентного) как некоторое «возвышение» имманентно нам данного без сущностной его трансформации. Такое трансцен-дирование условно можно назвать онтологическим.
По мысли С. С. Хоружего, глубоко исследовавшего как исихазм, так и творчество М. Хайдеггера15, в основе христианской онтологии лежит универсальная модель реальности, предполагающая существование и совершенного, и несовершенного бытия в качестве двух ее горизонтов, — «модель онтологического расщепления», в ней несовершенное (тварное), «здешнее» бытие «не является собственным источником… Оно предполагает, наряду с собою, свой внеположный себе источник, и таковым выступает другой онтологический горизонт, бытие совершенное, чьи атрибуты включают самобытность, безначальность, нетварность»16. Существенным является то, что онтологическое трансценди-рование позволяет человеку преодолеть дуалистическую «расщепленность» мира, действительно стать жителем двух миров — «дольнего» и «горнего». Трансцендирование к последнему является заданием, при надлежащем исполнении кардинально изменяющим, преображающим, возвышающим и человека, и саму данность. «Онтологический выход» (или трансформация, превосхождение человеком «фундаментальных предикатов наличного бытия») возможен в духовном опыте «при энергийной устремленности к такому выходу, следствием которого является “событие трансцендирования”»17.
Вместе с тем, С. С. Хоружий указывал на то, что в онтологическом тран-сцендировании следует отличать «события трансцендирования» от «виртуальных событий»: первые приводят к действительной трансценденции, вторые — лишь к трансгрессии, к «преступанию предела». Различие между двумя родами событий состоит в том, что энергии виртуальных событий не направлены к онтологической трансформации, они только «умаляют наличествование», в то время как события трансцендирования выводят человека к «сверх- наличествованию». Актуализация духовного опыта, в христианской традиции наиболее полно разработанного в исихазме, приводит именно к событиям трансцендирования; виртуальные же события являются следствием «предельного опыта» личности в актах трансгрессии. Эти два вида опыта, хотя и говорят вместе о преодолении природы человека, однако расходятся до полной противоположности в том, как они понимают и саму природу человека, и ее преодоление. По М. Фуко, «трансгрессия — это жест, который обращен на предел»18, но, надо думать, он за него не выводит. Используя метафору света, виртуальные события можно уподобить мерцанию, а события трансцендирования — сфокусированной сверхинтенсивной вспышке. Если для приверженцев трансгрессии природа человека есть конгломерат разнородных начал (прежде всего — сексуальных и социальных), преодоление которых является разрушением заданных форм этих начал, осуществляемым без цельной стратегии и направленным на диссоциацию субъекта («что сродни опыту некоторых экстатических сект, древних и новых»), то для христианских подвижников как репрезентантов «(все)че-ловечности, только не субстантивированной, … а сущей лишь в Богоустрем-лении»19, человеческая природа целостна, однако вследствие повреждения грехом она нуждается в своем кардинальном преображении посредством восприятия благодатных нетварных энергий. Иначе говоря, стратегия трансгрессии является антиантропологической, стратегия же духовного трансцен-дирования — мета-антропологической.
«Осевое время» как прорыв к трансцендентному
Трансцендентизм как тип мировоззрения прочно увязывается современным сознанием с теистической традицией, выраженной в авраамических религиях — иудаизме, христианстве и исламе. Однако он совсем не ограничивается ею. Представления о трансцендентном были свой ственны человечеству и вне рамок данной традиции. На это указывает введенный К. Ясперсом концепт «осевого времени», содержание которого заключается в утверждении о том, что в период между VIII и II вв. до н. э. в Греции, Индии, Китае, на Ближнем и Среднем Востоке произошли события, имевшие огромное значение для последующей истории человечества. Согласно немецкому философу, в это время мифологическое мышление стало замещаться рационально- философским, вследствие чего начал формироваться новый тип человека, осознающего свою духовную сущность, не выводимую из имманентно данного бытия и требующую для своего понимания привлечения метафизических категорий о сверхсущем. Осевым прорывом к трансцендентному было положено начало постепенному преодолению язычества, пантеизма и натурализма, и здесь значим вклад не только израильских пророков, без которых Благая весть христианства не могла бы быть воспринята и не появились бы идеи, легшие в основу ислама, но и буддизма, и даосизма, и античных философов, многие из которых приближались к абсолютной истине — это и Гераклит, и Сократ, и другие «христиане до Христа», этические положения которых во многом соответствовали новозаветным принципам. Конечно, даосизму и буддизму меньше повезло, чем иудаизму, христианству и исламу в том плане, что за плечами у них не было пророческой традиции и опыта хранения принципа единобожия, способствовавшего разработке понятия трансцендентного, разработке, осуществляемой с привлечением развитой греческой философии. Восточным учениям приходилось бороться со всем пластом тысячелетних традиций язычества, которые зачастую побеждали, однако при анализе этих учений следует все же исходить не из политеистической периферии, но из их внутренней сущности, а эта сущность оказывается в конечном итоге трансцендентной и несовместимой с многобожием.
В духовном познании можно идти различными путями — катафатическим и апофатическим, снизу или сверху, через многообразие или исходя из единства, не в этом суть, главное же — «прорваться» к трансцендентному, сохранить его и связать с имманентным, т. е. достичь трансцендентно-и мманентного синтеза. Даосизм идет снизу, от тела и его энергий, преобразуя их в дух ( шэнь ). Теистические религии исходят сразу из трансцендентного Духа, преобразуя им все телесное. Направленность духовного познания, таким образом, в этих учениях противоположна, но цель и суть одна. Особенно это проявляется в единстве этических категорий, понятии святости, несмотря на все имеющиеся различия. Нельзя остановиться на одном трансцендентном, — его необходимо ввести в жизнь. Также нельзя остановиться и на имманентном, — оно выродится в натурализм без устремленности к трансцендентному. Что же касается буддизма, то нирвана в нем носит всецело трансцендентный характер, она «не рождена причиной»20, поэтому для буддизма свой ственна апофатика, если не брать во внимание его «народные» искажения.
Вообще следует сказать, что ни одно богословско- философское учение не может объять необъятное, сформировать адекватное и полное представление о трансцендентном. В христианской догматике также дано истинное понимание трансцендентного, но этим отнюдь не сказано все. И как признают богословы, требуется развитие догматических основ на базе уже существующего догмата и в его пределах: «Достигнутая степень раскрытия христианской доктрины и ее антично- философская оболочка — не вечны и не единственны . Церковь с угасанием древних культур не состарилась, не омертвела и не утратила присущего ей дара Духа Божия, силы и права при всех переменах и обновлениях умственной жизни человечества непогрешительно устанавливать, если понадобится, и новые формулировки прежних догматов, и принимать новые по языковой и философской форме их истолкования»21.
«Осевое время» — это полноценный и всеохватывающий прорыв к трансцендентному, обнаживший последнее во всей глубине и ясности, но в разных традициях, в разной степени и по-разному. А. В. Семушкин, вслед за Ясперсом, называет его продукт «вселенским Евангелием», в которое входит вера отцов вселенской «философской церкви»22. Протуберанцы «осевого времени» были и раньше указанных сроков, а полноценное осмысление сказанного и совершенного в нем могло складываться и позже. Здесь все сложно и неоднозначно, противоречиво, — проявления трансцендентного можно выявлять и исследовать до бесконечности. Но сам концепт «осевого времени» позволяет зафиксировать качество данного прорыва, его временные параметры (пусть и достаточно условные) и характеристики, его культурное многообразие.
Философская эвристичность трансцендентизма
Трансцендентизм как тип мировоззрения имеет богатейший многотысячелетний опыт своего развития в аскетических религиозных практиках, однако сегодня, как и ранее, он нуждается в философском, рациональнотеоретическом осмыслении. Более того, в концептуализации трансцендентного мировоззрения остро заинтересована и сама философия, ведь данное мировоззрение открывает перед ней широкие перспективы совершения новых открытий при осуществлении ее исконной задачи — поисков адекватных ответов на смысложизненные вопросы.
В отличие от натурализма и пантеизма, трансцендентизм позволяет непротиворечиво мыслить и о начале бытия, и об источнике активности, движения в нем. Натурализм, решая данную задачу, вынужден был, с одной стороны, абсолютизировать материальное, с другой — приписывать последнему функции активного начала. Пантеизм же, не оставляя попыток вывести понятие безличного Абсолюта из самого мира, пришел к серьезному логическому затруднению, будучи вынужден сведенный им или ко всему (природе), или к «ничто» Абсолют рассматривать в качестве активного, все порождающего и приводящего в движение начала. Если натурализм совершил двойную философскую ошибку (абсолютизирование или пассивной материи, или одного из элементов сущего и дальнейшее приписывание им активного характера), то пантеизм, пойдя много дальше в философском плане вследствие позволившего избежать первой ошибки натурализма введения им метафизической категории Абсолюта, тем не менее, сохранил когнитивную установку о познании мира из него самого и так и не смог объяснить происхождение движения, иррационально апеллируя к переполненности «ничто» самим собой, вызывающей его эманацию. Поэтому категория Абсолюта осталась для имманентизирующего бытие пантеизма единственной трансцендентной категорией, которую он не решился развивать далее, как не решился и материализм признать метафизический характер абсолютизируемой им материи. Трансцендентный тип мировоззрения легко избегает вышеуказанных философских ошибок, во-первых, постулируя сугубо трансцендентный характер Абсолюта, и, во-вторых, понимая Его в качестве Личности, способной и на творческие действия, и на целеполагание, что для материи или безличного Абсолюта, согласимся, как минимум проблематично.
Трансцендентизм не только логически непротиворечиво отвечает на важнейшие онтологические вопросы, но и эвристично разрешает гносеологическую проблематику. Действительно, исходя из каких оснований как натурализм, так и пантеизм утверждают, что человеческий разум способен на адекватное познание и дальнейшее преобразование окружающего его мира? Кто или что санкционирует такую возможность — вещественное / идеальное «архэ», материя или безличный Абсолют, отнесение к которым понятий санкции и предписания уже является абсурдным? Почему человек вообще может претендовать на особые роли в разворачивающемся вследствие количественно- качественного прибавления (или же эманации неизвестно чего) мироздании? В трансцендентизме, по крайней мере, дается на это ясный ответ: человек-личность есть образ трансцендентной ему Абсолютной Личности, который способен, трансцендируя как в гносеологическом горизонте, так и в онтологическом, осуществлять в себе также и подобие Ей. О методиках трансцендирования можно и нужно философски спорить, однако возвышение человека над прочим тварным мирозданием здесь налицо.
Но этого мало. Трансцендентное мировоззрение дает приемлемые ответы и на «вечные» этические проблемы, в его ракурсе оформляется лишенная всяких апорий теодицея, точнее — уже антроподицея. Откуда берется зло в мире, если его повсеместно пронизывает идея Блага, или же он сотворен всеблагим, всеведущим и всемогущим Богом, который в христианской традиции есть Любовь? Ответ также предельно ясен: зло обусловлено свободой человека, избирающего собственный, уводящий его от Бога путь. Опять же, можно и нужно детализировать этот ответ, разворачивать оппонирующие между собой богословско-философские дискурсы, однако признаем, что парадигма в нем уже задана, и она выгодно отличается как от натуралистической, так и от пантеистической.
Личностность и свобода — краеугольные камни трансцендентного мировоззрения, и совсем не случайно то, что понятие личности (ипостаси) как творчески свободного в своей деятельности актора, способного исходя из собственных внутренних побуждений и представлений изменять не только окружающую среду, природную и социальную, но и самого себя, было сформировано именно в рамках христианского трансцендентизма. Как, впрочем, и понятие развития, означающего необратимое качественное изменение личности и ее окружения, понятие, логически необходимое лишь при принятии концепта линейного времени; стрелу же времени можно провести только в том случае, когда у нас есть начальная точка (в христианской интерпретации — грехопадение, после которого мир подпадает под власть текущего времени) и точка исторического финала ( эсхатон , вслед за которым «времени уже не будет» (Откр 10:6)). Натурализм же и пантеизм, исходя из природного мира и ограничиваясь им, в космологическом плане могут допустить лишь идею «вечного возвращения», основанную на модели циклически замкнутого в себе времени, представление о котором диктуется самой природой, искони перемежающей между собой этапы становления и разрушения. Так что создатели всех социальных утопий, если только они честны перед собой и осведомлены в историко-философских аспектах, должны отдать дань уважения христианскому трансцендентизму, породившему основополагающее для них понятие развития, однако рассматривающему хилиазм (утопизм) как ересь.
Заключение
Разбор эволюции философских мировоззрений от натурализма через пантеизм к трансцендентизму показывает, что последний тип способен ответить на пять кардинальных философских вопросов: о первоначале, об источнике

движения, о свободе, морали и теодицее. Онтология данных мировоззрений определяет и соответствующую гносеологию (см. схему): от эмпиризма и сенсуализма через пантеистический рационализм к вере как способу познания трансцендентного начала и недоказуемому знанию. Данный тип мировоззрения обнаруживает себя во всех мировых религиях и соответствующей философии. Возникает он благодаря «прорыву к трансцендентному» в «осевую эпоху». Это трансцендентное начало с необходимостью мыслится как Абсолютное Благо, ибо Абсолют должен быть наделен признаком совершенства. Неблагой Абсолют невозможен: если в нем есть изъян, несовершенство, зло — то такое начало не может быть абсолютным по определению (утверждение же о наличии такого изъяна неизбежно для пантеизма и всех его разновидностей). В нетеистических, неавраамических религиях понятие Абсолюта заменяется каким-либо трансцендентным понятием: будь то нирвана или дао, Тянь или что-либо еще. Истинность единого благого трансцендентного источника подтверждается единством морали, которая постулируется мировыми религиями и соответствующей философией. Если трансцендентное едино и универсально, то мировые религии являются его шифрами, — каждая из них изъясняет трансцендентное на языке своей культурной символики.
Из представленной онтологии (метафизики) трансцендентного вытекает и соответствующая антропология: в натурализме человек лишь биологическое существо, над природой которого надстраиваются социальные отношения; в пантеизме он — микрокосм, повторяющий в себе весь мир, однако не выделяющийся принципиально из этого мира, но способный слиться с Богом-природой без остатка, утратив самосознание. В трансцендентизме человек — богоподобное существо, микротеос, но не по сущности, а по благодати. И человек, и Абсолют сохраняют автономию, но человек предназначен для бесконечного уподобления Богу через его энергии (исихазм). Даруемая благодать — это предел человеческого совершенства, его горизонт.