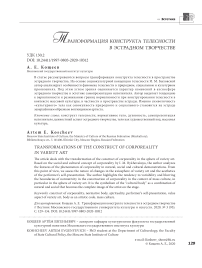Трансформация конструкта телесности в эстрадном творчестве
Автор: Кощеев Артм Евгеньевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 3 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы трансформации конструкта телесности в пространстве эстрадного творчества. На основе социокультурной концепции телесности И. М. Быховской автор анализирует особенности феномена телесности в природном, социальном и культурном проявлениях. Под этим углом зрения оценивается характер изменений в аксиосфере эстрадного творчества и эстетике самопрезентации исполнителя. Автор выделяет тенденцию к вариативности и размыванию границ нормативности при конструировании телесности в контексте массовой культуры, в частности в пространстве эстрады. Именно символичность «культурного» тела как совокупность природного и социального становится на эстраде завершённым образным воплощением артиста.
Конструкт телесности, нормативное тело, духовность, самопрезентация исполнителя, ценностный аспект эстрадного творчества, тело как художественный код, массовая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/144160876
IDR: 144160876 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10312
Текст научной статьи Трансформация конструкта телесности в эстрадном творчестве
КОЩЕЕВ АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ – аспирант кафедры культурологии факультета государственной культурной политики Московского государственного института культуры
KOSHCHEEV ARTEM EVGENYEVICH – PhD student at the Department of Culturology, the Faculty of State Cultural Policy, the Moscow State Institute of Culture
Одна из главных претензий к современному эстрадному творчеству, поп-музыке в частности, имеет ценностно-содержательный характер. Вследствие придания многим формам массовой культуры стиля шоу и рекламной самопрезентации исполнителей в последние десятилетия в сфере эстрады превалирует выразительность не столько художественного, сколько зрелищного характера. Выразительность такого рода направлена на визуальные впечатления в большей мере, чем на эстетические переживания на основе восприятия содержательно-формотворческих параметров эстрадного номера. В ряду доминирующих приёмов внешней выразительности видное место занимает эстетизация актёрской телесности исполнителей. Таким образом, в реалиях массовой культуры «телоориентированность» в её различных вариантах является одной из характерных черт эстрадных шоу. В связи с этим особого внимания заслуживает анализ конструкта телесности в разнообразии его эстетических проявлений.
Характерным примером социкультур-ного подхода к проблеме телесности является её дефиниция у И. М. Быховской, где она определяется как «“очеловеченное” тело, приобретшее в дополнение к своим изначально данным, естественным характеристикам те свойства и качества, которые порождены спецификой человеческой, социокультурной среды, определяющей условия существования, характер осмысления, принципы использования и преобразования свойств и качеств человеческого тела» [4, с. 107]. Восприятие телесности как единства витальных, то есть природных, и социокультурных характеристик человеческого тела позволяет поставить вопрос о теле человека, в том числе эстрадного исполнителя, как конструкта. Если в обы- денной жизни такое единство формируется стихийно, то в сфере художественного твор- чества, в частности на эстраде, оно именно конструируется, исходя из тех запросов, которые рождает социокультурная среда в определённый период. Отсюда закономерен вопрос о трансформации конструкта телесности в сфере эстрадного творчества.
Примером этой тенденции является то, что всё чаще современные эстрадные артисты, особенно представители музыкальных жанров, в качестве обогащения визуальной составляющей своего выступления используют шоу-балеты. Яркие детали костюмиро-вания, усиливающие внимание к телесной эстетике участников танцевально-пластического сопровождения «звёздного» вокалиста, направлены на «зрелищный драйв». По нашему наблюдению, включение элементов презентации телесности исполнителей как эстетической ценности в определённой мере способствует конструированию некоего образа «коллективного» тела, которое способно создавать у зрителя ощущения непосредственного участия в сценическом действии. В этом случае зритель не только воспринимает телесность исполнителя как сконструированный образ, состоящий из его «биологического» тела, а также костюма, макияжа, причёски (парика), включая элементы подтанцовки, видимого бэк-вокала, инструментальной группы, но и осознаёт себя сопричастным к этому зрелищному действу.
Вслед за И. М. Быховской мы выделяем три проявления человеческого тела: природное, социальное и культурное [4]. Данная дифференциация тела как основы конструкта телесности продуктивно для анализа основных тенденций в эстетизации современной эстрады. «Природное» тело определяется И. М. Быховской как «биологическое тело индивида, подчиняющееся законам существования, функционирования, развития живого организма» [4, с. 109]. «Природное» тело, являясь наиболее статичной формой бытия телесности, придаёт уникальность внешнему облику индивида. Благодаря творческой одарённости артиста, его профессиональным навыкам и умениям внешние характеристики его «природного» тела обретают особую выразительность. Именно «природное» тело исполнителя – та первооснова, которая влияет на характер эстетических впечатлений аудитории. Зрительское восприятие может быть созвучным сконструированному образу артиста (крепкое, коренастое тело Михаила Евдокимова в образе деревенского мужика и стройная, изящная фигура певицы Лаймы Вайкуле и т.д.), либо существует в контрапункте с репертуаром (Сьюзан Бойл – полная дама – домохозяйка из Канады, поразившая мир своим исполнением классических музыкальных произведений, исполнительница Монеточка – хрупкая девочка-подросток, исполняющая песни на остросоциальные темы).
Те или иные социальные перемены диктуют изменения не только в одежде, причёске, макияже, но и в их сочетании при конструировании тела, отвечающего новым веяниям. Мода является характерным примером синтетической сути конструкта тела как тела «социального». С точки зрения И. М. Быховской, «социальное» тело представляет собой результат взаимодействия естественно данного человеческого организма с социальной средой [4, с. 110]. Одним из подтверждений данного высказывания является эстрада: как одна из наиболее динамичных форм массовой культуры она своими средствами влияет на эстетические параметры «социального» тела с учётом тех или иных запросов общества.
В этом своём качестве эстрада обладает внушительным потенциалом трансляции ценностных установок. В контексте массовой культуры она формирует нормативы и идеалы в области телесности. Так, образ эстрадного артиста способен представлять не просто норму, а своего рода эстетический ориентир нормативности тела. Под действием социальных запросов и ожиданий эстрадное творчество активно участвует в процессе формирования «нормативного» тела. При этом тело становится своего рода холстом, отражающим противоречия в существующей системе ценностей. Проблема заключается в том, что, наряду с общепринятой нормой телесности, эстрадное творчество формирует и крайние реперные точки. С одной стороны, перед нами «эталонное» тело мейнстрима, а с другой – антиэталон андеграунда в качестве альтернативы норме.
С течением времени, подчиняясь процессам конвергенции массовой и неформальной культур, альтернативные течения становятся также частью «нормативного» тела. Так, если в 90-е годы прошлого столетия тенденции эротизации тела в рекламе и на эстраде поражали многих зрителей, то спустя несколько лет эстетические компоненты этого феномена воспринимались уже как вполне само собой разумеющийся атрибут поп-сцены. Причём, по утверждению французского исследователя Мишеля Фуко, «сексуальность, превращаясь в предмет особых забот и анализа … в то же время порождает усиление желаний каждого в его собственном теле, к нему и ради него» [9, с. 163]. Проникновение нового, шокирующего и устоявшегося в презентации «социального» тела становится существенным моментом в сфере эстрадного творчества.
Особое значение для анализа эстетических особенностей современной эстрады имеет предлагаемое И. М. Быховской третье воплощение конструкта телесности – тело «культурное». Согласно исследователю, специфику данного феномена можно опре- делить, как «своего рода квинтэссенцию, завершение перехода от “безличных”, природно-телесных предпосылок к собственно человеческому, не только социально-функциональному, но и личностному бытию телесности» [4, с. 110]. Таким образом, «культурное» тело можно рассматривать в качестве своеобразного способа самоидентификации, осознания личности в том или ином культурном контексте. С этим связана постановка вопроса о символизации телесности в современном обществе. Тело становится не просто идентификационным маркером принадлежности к тому или иному классу, касте, культуре, а образно-символическим комплексом, сопряжённым с рядом понятий, в том числе и таким, как «нормативная телесность». Отклонения от норматива тем или иным образом трактуются как знаки. Как отмечает Н. Н. Зарубина, «важнейшим символом успеха для представителей высшего и среднего классов становится здоровое, ухоженное, красивое, спортивное тело, тогда как запущенное, некрасивое тело маркирует неудачников» [7, с. 83]. На наш взгляд, именно символичность «культурного» тела как совокупности «природного» и «социального» становится на эстраде завершённым образным воплощением артиста.
Атрибуты визуального воплощения образа артиста создают знаковую систему, которая позволяет зрителю идентифицировать принадлежность исполнителя к тому или иному жанру, направлению. Например, такое весьма распространённое явление, как татуировки. Если ещё 40–50 лет назад тату на теле являлось знаком принадлежности к различным профессиональным обла- стям (моряки, служба в армии), социальным группам (заключённые) или же культурным группам и этносам (традиции некоторых народов наносить татуировки), то сегодня мы можем говорить о татуировках в семиотико-эстетическом аспекте. Разнообразие вариантов татуировки предстаёт не только как общая эстетическая мода, но и как знак приверженности тому или иному музыкальному жанру, подобным хип-хопу или року.
Знаково-эстетическую компоненту включают иные практики модификации тела, например, шрамирование (нанесение рисунка на кожу посредством неглубоких порезов), пирсинг и другие. Подобные проявления зачастую претендуют на восприятие личности как неординарной и уникальной. Стоит при этом иметь в виду, что почти всегда эти телесные модификации носят практически необратимый характер, то есть остаются со своим владельцем на продолжительное время, что ведёт к нормативиза-ции подобных образов. Этот процесс описал Фуко, назвав его «инвестированием власти в тело» [9]. По мнению С. В. Бацановой, дискурс телесности всегда связан с дискурсом власти и контроля. По сути, инвестируя в тело, власть стремится создать нормативную телесность, которая будет отвечать потребностям этой власти, но в результате осознания индивидом права на собственное тело возникает сила сопротивления – протестная телесность (панки в 1970–80-х годах, эмо, готы в 2000-х). Подобные протестные проявления телесности находят отражение в эстетике альтернативных, андеграундных течений эстрадного творчества. Подчиняя себе «социальное» тело, власть даёт толчок к развитию протестной телесности, находящей отклик также в эстрадном творчестве как одной из наиболее остро «реагирующих» сфер актуальной культуры.
Принадлежность к той или иной субкультуре рождает потребность в протестной модификации тела не только в виде татуировок и прочих маркеров его самоценности, но и, в связи с индивидуальным включением в сферу «гламурных» жанров, таких как современный R’n’B, поп, европоп, – хирургических модификаций различных частей тела (губы, грудь и т.д.). Развитие безопасной и доступной пластической хирургии и, соответственно, расширение перечня предложений эстетизации нашего телесного облика создают спрос и формируют систему знаков тела в качестве причастности к некой страте элитарного сообщества, касте людей, способных оплатить услуги пластики тела. Восприятие татуировок, шрамиро-вания, различных продуктов пластической хирургии как эстетической ценности провоцирует различные способы утверждения телесности как ценности в целом, а также утверждение новой эстетики манифестации свободного тела как индивидуального кода. С этой точки зрения интересно следующее высказывание А. Ю. Чукрова: «То, что обыденное сознание нередко воспринимает как саморазрушение, на самом деле является вариантом самоидентификации и обретения индивидуальности» [10, с. 148].
Тенденцию к вариативности и размыванию границ нормативности при конструировании телесности в контексте массовой культуры можно обозначить сентенцией «Моё тело – моё дело». По сути, тело становится самоценностью, наравне с индивидуальностью мышления, мироощущения, мировоззрения. Эта установка находит своё проявление и в сфере эстрады: ряд звёзд эстрады демонстрирует своим обликом и стилем самопрезентации тенденцию к отстранению от нормативной телесности. Так, основным из трендов в развитии вза- имоотношений общество – личность – тело сейчас можно выделить движение боди-позитив. Для него характерно своеобразное отношение к телу как самостоятельной, не требующей внешнего вмешательства данности. Боди-позитив как своеобразная парадигма телесности провоцирует отказ от инвестирования власти в тело, тем самым провозглашая его свободным от внешних вмешательств. Данное явление получило широкое распространение на волне роста активности движения феминизма и особенно проявило себя в индустрии моды участием в показах так называемых моделей-плюс (моделей с пышными формами). В эстрадном творчестве данный взгляд наиболее ярко проявил себя в образе певиц Адель и Netta.
Тем не менее современная «телоориен-тированность» и понимание тела как терминальной ценности создают предпосылки карнавализации облика-маски исполнителя и стиля его существования на эстраде. Осмысление конструкта телесности как инструментальной ценности в условиях массовой культуры даёт основания рассматривать проблему телесность/духовность в творчестве эстрадных исполнителей через призму феномена эстетического плюрализма и этического релятивизма.
В центре классического искусства всегда была тема духовности, которая подчиняла себе телесность. При анализе актуального состояния искусства важно иметь в виду запрос на внешнюю выразительность, яркую форму и установку исполнителя на тело как главное воплощение творческих особенностей и эстетических пристрастий Я. Проблема сопряжения внешней выразительности и внутреннего духовного наполнения по-прежнему связана с поиском наиболее удачного соотношения формы и содержания, телесности и духовности.
Список литературы Трансформация конструкта телесности в эстрадном творчестве
- Акчурин Б. Г. Человеческая телесность и социальные аспекты её идентификации: дис. на соискание учёной степени доктора философских наук: 09.00.11 / Акчурин Басыр Гайфуллович. Уфа, 2004. 315 с.
- Бацанова С. В. Протестная телесность // Вестник БГТУ имени В. Г. Шухова. 2015. № 4. C. 245-250.
- Бойко М. М. Социальные стратегии структурирования телесности: дис. на соискание учёной степени кандидата философских наук: 09.00.11 / Бойко Марина Михайловна. Владивосток, 2010. 171 с.
- Быховская И. М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела / Российская академия наук, Министерство культуры РФ, Российский институт культурологии. Москва: Эдиториал УРСС, 2000. 204,[2] с.
- Горяинов А. А. Феномен телесности в социокультурном пространстве: дис. на соискание учёной степени кандидата философских наук: 09.00.13 / Горяинов Александр Александрович. Белгород, 2006. 131 с.
- Замощанский И. И. Телесность как смыслообразующий фактор культуры: дис. на соискание учёной степени кандидата философских наук: 09.00.11 / Замощанский Иван Игоревич. Екатеринбург, 2007. 141 с.
- Зарубина Н. Н. Представления о "нормативном теле" как детерминанты изменений в практиках питания россиян // Историческая психология и социология истории. 2015. № 1. C. 75-91.
- Колесник М. В. Телесность массовой культуры: дис. на соискание учёной степени кандидата философских наук: 09.00.13 / Колесник Михаил Васильевич. Омск, 2007. 163 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / пер. с франц. С. Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и Б. М. Скуратова. Москва: Праксис, 2002. 384 с.
- Чукуров А. Ю. Конструирование телесности как механизм самоконтроля // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2015. № 3 (36). C. 145-149.