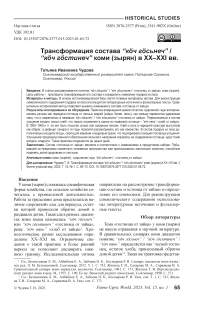Трансформация состава “кöч гöсьнеч” / “кöч гöстинеч” коми (зырян) в XX–XXI вв.
Автор: Чудова Т. И.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается понятие “кöч гöсьнеч” / “кöч гöсьтинеч” «гостинец от зайца» коми (зырян). Цель работы - проследить трансформацию его состава и определить символику подарка из леса. Материалы и методы. В основу источниковедческой базы легли полевые материалы автора. Для реконструкции символического содержания подарка из леса используются литературные источники и фольклорные тексты. Сравнительно-исторический метод позволяет выявить изменения в составе «гостинца от зайца». Результаты исследования и их обсуждение. Практика возвращения домой остатков «дорожной» еды воспринималась детьми как передача гостинца от лесных зверей (зайца, белки, лисы), где пальму первенства удерживал заяц, что и закрепилось в названии “кöч гöсьнеч” / “кöч гöсьтинеч” «гостинец от зайца». Первоначально в состав угощения входил только хлеб, что нашло отражение в одном из названий гостинца - “кöч нянь” «хлеб от зайца». В 1950-1960-х гг. он мог быть посыпан солью или сахарным песком. Хлеб и соль в народной культуре выступали как оберег, а дефицит сахара в те годы позволял рассматривать его как лакомство. В состав подарка из леса дополнительно входили ягоды, смола для жевания и кедровые орехи, что подчеркивало локацию посланца угощения. Улучшение продовольственного обеспечения сельского населения сказалось на содержимом гостинца, куда стали входить сладости. Такая практика сохраняется до наших дней. Заключение. Состав «гостинца от зайца» менялся в соответствии с изменениями в продуктовом наборе. Побывавшей за пределами освоенного человеком пространства еде приписывались магические свойства, способные наделять детей здоровьем и счастьем.
Коми (зыряне), «дорожная» еда, “кöч гöсьнеч”, «гостинец от зайца»
Короткий адрес: https://sciup.org/147240190
IDR: 147240190 | УДК: 392.81 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.01.65-72
Текст научной статьи Трансформация состава “кöч гöсьнеч” / “кöч гöстинеч” коми (зырян) в XX–XXI вв.
У коми (зырян) сложилась специфическая форма хозяйства, где сельское хозяйство сочеталось с промысловой деятельностью. Работа за пределами дома предполагала наличие «дорожной» еды для перекуса, остатки которой приносили обратно домой и раздавали детям. Такая еда в разных диалектах коми языка называлась “кöч гöсьнеч” или “кöч гöсьтинеч” «гостинец от зайца», реже “кöч нянь” «хлеб от зайца»1. Хронологические рамки исследования определены XX–XXI вв. Отрывочные сведения о такой практике в более ранний период не позволяют расширить нижнюю границу. Исследовательская оптика направлена на рассмотрение трансформации состава «гостинца от зайца» и определение его символики. Для реконструкции символического содержания использованы литературные источники и фольклорные тексты.
Обзор литературы
Тема «гостинца от зайца» у коми (зырян) не нашла отражения в научной литературе. В сравнительных словарях коми диалектов понятие “кöч гöсьнеч” / “кöч гöсьтинеч” / “кöч нянь” определяется как ‘лесной гостинец, остаток хлеба, принесенный обратно домой детям’2. Такая же трактовка представ-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ лена в диалектной лексике верхнесысоль-ских3 и вымских4 коми. Краткое описание «гостинца от зайчика», характерное для Русского Севера, включено в контекст статьи Г. И. Кабаковой о «дорожной» еде [5]. Литературными источниками для определения символического значения «гостинца от зайца» послужили работы И. В. Ильиной [3], А. С. Сидорова [8; 9], П. А. Сорокина [10], О. И. Уляшева [11]. Дополнительно были привлечены фольклорные тексты5.
Материалы и методы
Основу источниковой базы исследования составили полевые материалы автора. Интервьюерами выступали люди разных возрастов, социального положения, родившиеся как в городе, так и в сельской местности. В данном контексте необходимо отметить, что для коми населения характерен билингвизм, поэтому в интервью на русском языке понятие “кöч гöсьнеч” / “кöч гöсьтинеч” звучит как «гостинец от зайца». Основной метод исследования – сравнительно-исторический – позволил увязать динамику состава подарка из леса с изменением продуктового набора коми (зырян). Анализ литературных источников и фольклорных текстов предоставил возможность реконструировать знаковое содержание гостинца.
Результаты исследования и их обсуждение
Трудовая деятельность за пределами дома (рыбный или охотничий промысел, заготовка леса, сенокос, сбор даров леса) предопределила особую форму организации питания с использованием «дорожной» еды, которая представляла собой домашнюю еду, специально собранную для перекуса вне пределов дома. Еда «на вынос» мало чем отличалась от домашней, она была готова к употреблению, но должна была выдержать транспортировку [5, 158]. Остатки такой еды нередко приносили детям, объясняя им, что это подарок от зайчика, белочки или лисички. Чаще всего в качестве посланца гостинца выступал заяц, что нашло отражение в названии “кöч гöсьнеч” / “кöч гöсьтинеч” «гостинец от зайца».
Г. И. Кабакова отмечает, что еда «возвращалась» в дом сознательно и предназначалась детям [5, 164 ]. Они с нетерпением ждали возвращения родителей с работы за пределами населенного пункта в надежде получить подарок от лесного зверя. Первоначально в состав угощения входил только хлеб, о чем свидетельствует одно из названий гостинца “кöч нянь” (‘хлеб от зайца’, ‘хлеб, принесенный обратно домой детям’6). Общее название хлеба у коми (зырян) – нянь/нень , нянь тупöсь , нянь кöрыш , чöлпан , где слово нянь/нень обозначает ‘хлеб’, а слова тупöсь , кöрыш и чöлпан – ‘каравай’, ‘коврига’, отличающиеся размером. Районные номинации хлеба из ячменной муки следующие: ид нянь (верхняя Вычегда, Сысола), иг нянь (Вымь, нижняя Вычегда), житьöй (Удора), ярушник (Удо-ра, нижняя Вычегда), тяпыш (Ижма). Ржаной хлеб повсеместно именовался рудзег нянь , на средней Вычегде – сю нянь , на Летке – сюа нянь [12, 19–20 ]. Включение хлеба в состав угощения из леса не было случайным: у пермских народов он считался мощным средством от нечистой силы и болезней [11, 324–325 ].
Практику приноса гостинца из леса информанты описывают так: «…в войну дедушка, возвращаясь из леса, всегда приносил кусок хлеба или сухарь. Тогда хлеба не было, мы ждали этот подарок»7; «…из леса приносили хлеб, сухарь, а часто просто смолу (сир)»8. Подчеркнем, что в голодные военные годы не всегда была возможность принести домой хлеб или сухарь, и, чтобы порадовать ребенка, в «гостинец от зайца» вместо хлеба включали еловую или лиственничную смолу для жевания.
Как сообщали респонденты 1940– 1950-х гг. рождения, дождавшись прихода родителей с полевой работы, они спрашивали, прислал ли им зайчик что-то в подарок: “Кöч мöдодыс госьтинеч-тö?” 9. «Возвращаясь с работы из леса, родители приносили кусок хлеба или сухарь, который доставали из нагрудного кармана, так как там хлеб не так сильно промерзал»10. Одна из информантов рассказала, что «отец, возвращаясь с лесозаготовок зимой, доставал кусок хлеба, посыпанный сверху сахарным песком, и говорил, что это подарок от зайчика. Хлеб был полностью промерзшим, но казался очень вкусным. Реже такой кусок хлеба был намазан сливочным маслом, а сверху тоже посыпан сахарным песком»11. Другие уточняли, что вместо сливочного масла хлеб был намазан маргарином, поскольку масло использовали только при приготовлении праздничной выпечки12. Часто в составе «гостинца от зайца» упоминался только кусок хлеба или сухарь13. В отдельных интервью сообщалось, что приносили из леса то, что осталось недоеденным, без указания состава такого гостинца14.
Можно предположить, что скудный рацион домашнего питания в тот период не позволял вносить разнообразие в состав «дорожной» еды, основу перекуса составлял только хлеб. Поскольку сахар был редкостью на столе сельских жителей, хлеб с сахарным песком воспринимался детьми именно как угощение, сладкий подарок. По рассказу одного из интервьюируемых, при разборке старого амбара в деревне нашли «тайник», где его дед прятал сахар, который был приобретен примерно в середине 1950-х гг. По какой-то причине о содержании тайника было забыто, и сахар пролежал там почти 60 лет15. Примечательно, что практика приноса подарка из леса в виде сахара сохранялась до 1970-х гг., при этом сахар был кусковой, пиленый тогда в сельских магазинах не продавался16.
Иногда хлеб был сверху посыпан солью. В этом контексте нужно обратить внимание на практику приготовления сола пирöг (‘пирог с солью’): перед выпечкой сочень посыпали солью и заворачивали в виде пирога. Такие пироги готовили в дорогу, поскольку соль не давала пирогу промерзнуть в мо-розы17. Хлеб и соль – два важных атрибута ежедневного застолья – нашли отражение в устойчивой речевой формуле “нянь да сов” «хлеб да соль» как пожелание счастья и безбедного существования [11, 89 ]. Эта словесная формула одновременно выступала и пожеланием приятного аппетита, и приглашением к застолью, о чем свидетельствует присказка: “Нянь да сов, пукси да сёй” «Хлеб да соль, садись и ешь».
Особого внимания требует магическое значение хлеба и соли как оберега в культуре коми (зырян). Так, высокий сакральный статус хлеба поддерживается его символической соотнесенностью с «телом Христа»18, а соль широко применяется в качестве оберега от нечистой силы19. Считалось, что для успеха в охоте нужно, чтобы
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ каждую ночь в доме на столе оставались хлеб и соль20. Находясь в лесных избушках, охотники ежедневно жертвовали кусочек хлеба очагу для удачи [9, 46 ], при этом верили, что хлеб, брошенный в печку, спасет от нечистой силы в лесу21, а ружье, заряженное хлебным мякишем, не подвержено колдовству [8, 223 ]. Магия хлеба применялась и в практике снятия порчи с животных (собака, корова, лошадь) [10, 26 ]. Хлеб и соль, взятые в дорогу, символизировали связь с домом, сулили удачу. Такие параллели прослеживаются и в русской традиции, где хлеб символизировал связь со своими, а соль выступала оберегом против чужих [13, 110–111 ].
Поскольку работа вне дома осуществлялась в лесу, возле речки, а эти локусы выступали пограничьем между миром живых и миром мертвых, что хорошо просматривается в топографии средневековых могильников непосредственных предков коми (зырян) [7, 81–89 ], можно сделать предположение: еда как бы побывала в ином мире, где, по мифологическим представлениям коми, находятся здоровье, богатство и благополучие. В данном контексте отметим, что в лечебной практике наиболее целебными, магическими свойствами обладала вода, набранная вдали от дома [3, 189 ]. Подчеркнем, что самый обычный продукт питания, побывавший за пределами освоенного человеком пространства, приобретал иную смысловую нагрузку, становясь магическим, способным наделить едока здоровьем и благополучием. Такая еда предназначалась именно детям, которые воспринимали ее как подарок от лесного жителя.
Практика приноса хлеба в качестве подарка из леса имеет широкие географические рамки. Так, на Русском Севере в состав гостинца включали хлеб как угощение, присланное зайцем, лисой, волком, белкой или другими зверушками [5, 165]. При этом, как и в зырянской традиции, заяц занимал первое место среди перечис- ленных дарителей. Традиция приносить «подарок от зайчика» была характерна, например, для вепсов [1, 144].
Со второй половины 1950-х гг. финансовое положение сельского населения стало постепенно улучшаться. В 1958 г. по сравнению с 1952 г. средний размер выплат за трудодни увеличился в 7,6 раза [4, 485 ]. Кроме того, пенсионная реформа 1956 г. дала сельчанам право на пособие по старости в размере 10 трудодней и денежные выплаты по 50 руб. в месяц за счет средств колхозов (что было в 6 раз меньше минимальной пенсии рабочих и служащих). Денежные пособия стали получать многодетные матери, а также семьи по потере кормильца [6, 104 ]. Все это способствовало росту покупательной способности сельских жителей, которые теперь могли приобретать сладости: сахар, карамель «подушечки», пряники, сушки и др. Открытая в 1959 г. Сыктывкарская кондитерская фабрика поставляла в торговую сеть вафли с фруктово-ягодной начинкой22. При этом в 1960-е гг. структура товарооборота в торговле, обслуживающей сельское население, начала сближаться со структурой городского товарооборота [2, 192 ].
Улучшение экономического положения сельчан позволило включать в состав еды «на вынос» пироги и колобки. Такая практика связана с тем, что эти хлебобулочные изделия не имели скоропортящейся начинки, а потому хорошо выдерживали транспортировку. Пироги на ржаной корочке были с начинкой из муки ( пызя пирöг ) или крупы ( шыдоса пирöг или сюра пирог ) [12, 24–25 , 28 ]. Конфеты, печенье, пряники или вафли в те годы встречались в «гостинце от зайца», но на столе сельских жителей они все же были редкостью23. Сладости воспринимались сельскими детьми именно как подарок, а родители радовали детей таким угощением.
В 1970–1980-х гг. в состав еды «на вынос» в городской среде стали включать сало, вареную колбасу (копченая редко продавалась в магазинах), плавленый сырок, колбасный сыр (сыры твердых сортов нечасто поступали в розничную торговлю). Как следствие, в составе «гостинца от зайца» появились бутерброды с этими продуктами. Однако, судя по воспоминаниям детей того периода, угощения не вызывали у них особого восторга, в отличие от детей 1950-х гг. рождения. В сельской местности в состав еды «на вынос» входили хлеб, молоко, кусковой сахар, кусочки вяленого мяса24, иногда яйца25. О. И. Попова рассказала, как в начале 1980-х гг. «родители стали разрабатывать дачный участок, беря с собой бутерброды и чай в термосе. Оставшуюся еду приносили обратно домой. Выкладывая еду на стол, отец всегда говорил: “Таэ кöч гöсьнеч” («Это гостинец от зайца»), хотя мы, его дети, были уже взрослые и серьезно не воспринимали эту фразу»26. Приведенный пример позволяет говорить о длительной сохранности данной традиции.
В 1990-х гг., несмотря на экономический кризис в стране, в состав «гостинца от зайца» кроме хлеба включали конфеты, печенье, пряники, вафли и т. д.27 А. В. Истомина вспоминала, как «папа приносил обычно хлеб либо вкусности в виде конфет, пряников, печенья или вафель. В это (в «подарок от зайца». – Т. Ч. ) верила в детстве. При этом помню, что оно [угощение] было самым вкусным»28.
Интересна трансформация «гостинца от зайца» в 2000-х гг.: родители стали называть так сладкие подарки от бабу-шек29. Любопытной выглядит городская практика приносить домой остатки взятого в общественную баню чая в термосе, определяя его как «гостинец от зайца»30. Подчеркнем, что традиция передавать подарки от лесного зверька существует и в наши дни. В продолжение своего рассказа А. В. Истомина заметила: «…у меня папа этим летом Настю (двухлетнюю внучку. – Т. Ч.) тоже угощал печеньем, точно так же сказал, что зайчик ей передал. Съела с удовольствием, хотя до этого не любила печенье»31. Приведенные данные свидетельствуют о том, что традиция приносить оставшуюся еду в виде «гостинца от зайца» для детей не утратила своего значения, при этом хлеб был заменен сладостями. Современная практика радовать детей «подарком от зайца» в виде шоколадных батончиков и чипсов отмечена, например, на Русском Севере [5, 165].
Кроме хлеба, составлявшего основу «гостинца от зайца», в него включали также «природные» компоненты: ягоды («приносили красную смородину»32, «иногда приносили горсть ягод (черника, морошка или красная смородина)»33, «приносили из леса в подарок ягоды»34), еловую смолу35, кедровые орехи и лиственничную смолу. Из смол последней отдавали предпочтение, так как еловая была с горчинкой36. В данном контексте нужно указать, что разница в возрасте информантов составляет около 70 лет, поэтому можно смело говорить об устойчивости этой практики. Дары леса можно рассматривать как ответный подарок. Известно, что, заходя в лес, охотник обязательно приносил по-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ дарок лешему. В качестве дара выступала первая добыча, оставляемая на пне37, или горсть ягод при их сборе. Правила поведения требовали бережного обращения с лесом, а такой взаимообмен подарками способствовал установлению благоприятных взаимоотношений между миром леса и миром деревни. Неслучайно приносимый из леса подарок номинировался как «гостинец от зайца/белочки/лисички», т. е. именно от лесных обитателей. Еловая или лиственничная смола в народной культуре использовалась в качестве сильного магического средства, а в народной медицине – профилактического средства от зубной боли38. Включение кедровых орехов в состав «гостинца от зайца» представляет собой локальную традицию местности, где произрастала кедровая сосна.
Заключение
Анализ полевых материалов свидетельствует, что состав “кöч гöсьнеч” / “кöч гöстинеч” / “кöч нянь” менялся в соответствии с изменениями в продуктовом наборе коми (зырян). Если первоначально подарок из леса включал хлеб, то позднее в его состав стали входить сладости (конфеты, печенье, пряники, вафли). Побывавшая вне пределов освоенного человеком пространства еда приобретала магическую силу, была способна наделить ребенка здоровьем и счастьем, а родители с удовольствием радовали детей таким угощением. Кроме того, в состав «гостинца от зайца» включали ягоды, смолу для жевания, а в некоторых районах – кедровые орехи, тем самым подчеркивая локацию дарителя.
-
37 Му пуксьöм. С. 324.
-
38 Уляшев О. И. Сир II // Мифология коми. С. 342.
Поступила 27.11.2022; одобрена 20.12.2022; принята 26.12.2022.
Список литературы Трансформация состава “кöч гöсьнеч” / “кöч гöстинеч” коми (зырян) в XX–XXI вв.
- Винокурова И. Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов: (опыт реконструкции). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 447 с.
- Голованов Н. В., Мацук М. А. Пути развития торговли в Коми в XX веке. Сыктывкар, 1999. 317 с.
- Ильина И. В. Традиционная медицинская культура народа Европейского Северо-Востока (конец XIX - XX вв.) / отв. ред. З. П. Соколова. Сыктывкар: [Б. и.], 2008. 229 с.
- История Коми с древнейших времен до современности: в 2 т. / под общ. ред. И. Л. Жеребцова, А. А. Попова, А. Ф. Сметанина. 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар: Анбур, 2011. Т. 2. 703 с.
- Кабакова Г. И. «Дорожная» еда в терминологии и представлениях конца XIX - начала XX века // Зборник Матице српске за славистику. 2021. Vol. 2021, no. 100. P. 157-168. DOI: 10.18485/ ms_zmss.2021.100.11.
- Милохин Д. В., Сметанин А. Ф. Коми колхозная деревня в послевоенные годы. 1946-1958: социал.-экон. аспекты развития. М.: Наука. 2005. 292 с.
- Савельева Э. А., Истомина Т. В. Идеологические представления древних коми по данным погребального обряда // Финно-угры и славяне (Проблемы историко-культурных контактов): межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1986. С. 80-92.
- Сидоров А. С. Знахарство, колдовство и порча: Материалы по психологии колдовства. СПб.: Алетейя, 1997. 277 с.
- Сидоров А. С. Следы тотемистических представлений в мировоззрении зырян // Коми му. 1924. № 1-2. С. 43-50.
- Сорокин П. А. Пережитки анимизма у зырян // Этнографические этюды: сб. этногр. ст. П. А. Сорокина. Сыктывкар, 1999. С. 24-51.
- Уляшев О. И. Хроматизм в фольклоре и мифологических представлениях пермских и об-скоугорских народов. Екатеринбург: УрО РАН. 2011. 421 с.
- Чудова Т. И. Культура питания коми (зырян): моногр. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 206 с.
- Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции Х1Х-ХХ вв. М.: Индрик, 2003. 527 с.