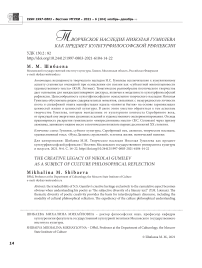Творческое наследие Николая Гумилева как предмет культурфилософской рефлексии
Автор: Шибаева М. М.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (104), 2021 года.
Бесплатный доступ
Несводимость творческого наследия Н.С. Гумилева исключительно к кумулятивному аспекту становится очевидной при осмыслении его поэзии как «субъектной многоплановости художественного текста» (Ю.М. Лотман). Тематическое разнообразие поэтического творчества дает основание для междисциплинарного дискурса, включая и модальность культурфилософской рефлексии. Целесообразность культуфилософского осмысления творческого наследия Николая Гумилева обусловлена рядом содержательных моментов, связанных с незаурядностью личности поэта и спецификой опыта манифестации идеала «полноты бытия» на основе гармонизации ценностей жизни и ценностей культуры. В свете этого уместно обратиться к тем аспектам творчества Гумилева, которые неотделимы от культурного контекста Серебряного века, от присущей ему энергетики духовных исканий и художественного экспериментирования. Отсюда правомерность раскрытия гумилевского «импрессионизма мысли» (В.С. Соловьев) через призму акмеизма, занявшего видное место в поэтическом полилоге первых десятилетий ХХ столетия.
Гумилев, субъект культуры, серебряный век, акмеизм, творческое наследие, художественный текст, «муза дальних странствий», эстетика жизни, поэтический полилог
Короткий адрес: https://sciup.org/144162367
IDR: 144162367 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-6104-14-22
Текст научной статьи Творческое наследие Николая Гумилева как предмет культурфилософской рефлексии
Что делать нам с бессмертными стихами? (Николай Гумилев)
Внутренняя связь субъекта со всем существующим выражается в том существенном акте, который мы в своем сознании находим как тройственный акт веры, воображения и творчества.
(Владимир Соловьев)
…Поэты жили в едином времени, дышали воздухом этого времени, решали задачи, данные этим временем
(Сергей Аверинцев)
Странствующий рыцарь, аристократический бродяга – он был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте.
(Александр Куприн)
Модальность раскрытия своеобразия творческого наследия Николая Степановича Гумилева (1886-1921) через призму философии культуры согласуется с умозаключением М.М. Бахтина о том, что «предмет гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие. Это бытие никогда не совпадает с самим собою и по- тому неисчерпаемо в своем смысле и значении…» [1, с. 228]. Существенным источником неисчерпаемости Бытия, отражаемого в символических формах культуры, являются «пересечения смысловых пространств, которые порождают новый смысл, связаны с индивидуальным сознанием» [11, с.117].
А индивидуальное сознание интегрирует, как известно, интеллектуальные, эмоциональные и волевые компоненты мира человеческой субъективности, влияющие на ценностные ориентации личности и ее жизненный путь.
Постижение смысловой ёмкости и продуктивности взаимосвязи Макрокосма культуры и микрокосма человека в качестве creative personality предполагает использование самых разных подходов, включая культурфилософ-скую рефлексию. В границах данного дискурса субъектность культуры рассматривается в сопряжении аксиологии, философии творчества и экзистенциализма. В свете того непреложного факта, что имя Николая Гумилева -при всех драматических коллизиях - преодолело рамки «биографического времени» и сохраняет свою «знаковость» в культурном пространстве «Большого времени», т.е. современности, стоит выделить ряд аспектов сопряженности «жизненного мира» поэта и полисемантики его творческого наследия.
Архитектоника творческого наследия Н.С. Гумилёва, тематические циклы его поэзии и тональность каждого из них соотносятся с трактовкой феномена культуры и как опыта переживаний, и как фактора расширения границ мировосприятия субъекта ценностных отношений. При такой трактовке культуры «импрессионизм мысли» поэта дает повод для акцентирования ряда моментов, связанных с аксиосферой Гумилева и с уникальностью его опыта органичного соединения литературной деятельности с различными формами жизнет-ворчества. В свете этого стоит процитировать самого поэта:
Ещё не раз вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный, Нелепый мир из песен и огня Но меж других единый необманный [7, с. 366],
Важно иметь в виду при этом, что архитектоника его творческого наследия1 не сводится к поэтическим жанрам, а включает ряд прозаических, драматургических и теоретических текстов, связанных между собой «гнозисом переживаний» в адрес природного и этнокультурного разнообразия и патетикой отношения к «заветным» именам (от мифологических до исторических)
Как вид нематериального наследия, фонд творческих достижений поэта правомерно рассматривать в ракурсе вопроса, связанного с актуализацией кумулятивного потенциала культуры. При трактовке культуры как ценностного фонда не вызывает сомнения актуальность проблемы продуктивного приобщения в реалиях современности к различным пластам нематериального наследия, т.е. творческим достижениям прошлого. При подходе же к гумилевскому наследию как к авторскому метатексту эвристическую значимость обретает рефлексия над содержательно-стилистическими характеристиками творчества. тематического разнообразия поэзии и своеобразием его авторского стиля. Целесообразность экзистенциального ракурса осмысления тематического разнообразия и полистилистики творческого наследия Н.С. Гумилева связана, на мой взгляд, с открытым характером комплекса вопросов о субъекте культуры.
При обращении к субъектному аспекту творческого наследия поэта заслуживает внимания следующий «завет» М.М. Бахтина: «Позиция автора-художника и его художественное
-
1 Творческое наследие Н.С. Гумилева создавалось с 1902 по 1921 гг. и включает тематические циклы стихов (от «Романтических цветов» до «Огненного столпа»), поэмы, новеллы, теоретические статьи и переписку. Ряд его творческих замыслов остался в незавершенными из-за расстрела по ложному обвинению в причастности к к мятежу в Кронштаде..
задание может быть и должно быть понято в мире и со всеми ценностями познания и этического поступка» [1, с. 32]. При этом важно иметь в виду то обстоятельство, что становление творческой индивидуальности Н.С. Гумилева происходило в реалиях Серебряного века1, креативная энергетика и парадоксы которого сопряжены с духовными исканиями и тенденциями обновления языков искусства. Степень интенсивности сопряжения в творчестве Н.С. Гумилева двух типов рефлексии - философской и художественной соответствовала и сути, и «духу времени». Своеобразие культуры Серебряного века заключалось в том, что она являла собой «парадоксальную целостность, состоящую из враждующих направлений и противоположных тенденций» (13, с. 185 )
С определёнными допущениями можно полагать, что многогранный опыт творческой самореализации Н.С. Гумилева в значительной степени отражает ценностные ориентации и пр инципы тво рчества акмеизма2 как од-
1 Ряд особенностей феномена Серебряного века как «русского Ренессанса» (Н.А. Бердяев) рассмотрен в моих статьях: «Серебряный век как специфический хронотоп культуры». \\ Вестник МГУКИ. 2014. № 6 С. 19-23; «Феномен панэстетизма в контексте русского модернизма». \\ Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма. Коллективная монография. – М. Ин-дрик. 2016. С. 124-137.
-
2 Стоит напомнить, что рождение данного явления связано с именами Николая Гумилева и Сергея Городецкого, которые манифестировали ряд творческих идей, альтернативных символизму, и в определенной мере соотносились с понятием поэта Михаила Кузмина «кла-ризм», разработанным в его статье «О прекрасной ясности»; данный текст был опубликован в 1910 г. в журнале «Аполлон», на страницах которого увидели свет и манифесты родоначальников акмеизма. Позднее в этом же издании дебютировали под эгидой акмеистических принципов творчества Анна Ахматова, Михаил Лозинский, Осип Мандельштам и Михаил Лозинский. Здесь же была опубликована в 1913 г. и статья Николая Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» - своего рода творческий манифест
ного из трех художественных направлений в культуре Серебряного века. Включенный в творческий полилог между субъектами духовных исканий и художественного экспериментирования, акмеизм представлял собой сугубо русское явление (в отличие от символизма и футуризма). Генезис данного явления обусловлен рядом факторов, включая критическое отношение Гумилева и его единомышленников к символизму и, говоря словами С.С. Аверинцева «протест против инфляции священных слов». В этой связи уместно процитировать Осипа Мандельштама, который в своей статье «Утро акмеизма» отмечал, что «для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов»; при этом акцентировался и следующий момент, объединивший его с Городецким, Гумилевым и Ахматовой: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в лесу символов»[12, с.169-170]. Отсюда и его призыв, обращенный к единомышленникам: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма» [Там же, с. 172].
Николаем Гумилевым такой принцип жизнетворчества был реализован не только в поэтической сфере: книжному стилю «вжи-вания-вчувствования» в земное пространство природного и этнокультурного разнообразия он предпочитал риск путешествий в незнакомые страны и континенты. Вот, к примеру, стоки из «Приглашения в путешествие»:
Уедем, бросим край докучный И каменные города, Где Вам и холодно, и скучно, И даже страшно иногда.
-
< . .. > Уедем! Разве Вам не надо
В тот час, как солнце поднялось, Услышать страшные баллады,
Рассказы абиссинских роз:
О древних сказочных царицах,
О львах в короне из цветов,
О черных ангелах, о птицах, Что гнёзда вьют средь облаков …. [5, с. 318],
Отмечаемая многими современника-ми-поэтами1,, а также исследователями творчества Н.С. Гумилева склонность к экзотике имела свои побудительные причины. Населенность гумилевской поэзии «занзибарскими девушками», «густыми лесами Сенаара», «волнами Уэби», «гиппопотамами в яванских тропиках», «розами Леванта», «Дамьетскими скалами» и подобными им образами «сказочной красоты» была обусловлена творческими установками акмеизма на преодоление «сумрака» уныния и нагнетания культивирования мотивов неизбывного пессимизма и поэтизация душевного надлома. В противовес символистской поэтизации субъективных переживаний по поводу непознаваемости смысла Бытия человека в беспредельной Вселенной и обреченности людей на «неслыханные перемены, невиданные мятежи» (А. Блок), акмеизм манифестировал ценности жизнеутверждающего характера.
В соответствии с акмеистическим идеалом «полноты бытия» яркое воплощение в творческом наследии Николая Гумилева получили такие «чувства подъема», как любовь к жизни в ее различных проявлениях и восхищение эстетическим многообразием мироздания. Отсюда пронизывающая весь контекст творчества Гумилева экспрессия выражения его ценностного отношения к жизни, которое систематически актуализировалась в опыте странствий по миру. В том и заключается, на мой взгляд, уникальность Николая Гумилева как субъекта культуры, что, почитая «закон священной лжи / в картин, статуе, поэме» [7, с. 355], он творил не только поэтические тексты, но и самого себя. Его «жизненный мир» и творческое «кредо» несут на себе яркую, можно сказать, неповторимую печать страстной сопричастности к системе «природа-че-ловек-культура».
Эта сопричастность носила у поэта концептуальный характер, о чем свидетельствует его творческое наследие в целом и заключит-льная стофа стихотворения «Фра Беато Анджелика»:
Есть Бог, есть мир, они живут вовек, А жизнь людей мгновенна и убога.
Но все в себе вмещает человек, Который любит мир и верит в Бога. [Там же, с. 217],
Культуфилософское осмысление его произведений выявляет близость концептосферы Гумилева романтизму как типу мироощущения. Полисемантика и экспрессивные особенности гумилевских творений подтверждают собой, что «конкретное переживание своей субъективности и абсолютной неисчерпан-ности в объекте – момент, глубоко понятый и усвоенный эстетикой романтизма…» [2, 40]. Не менее наглядно проявляются в гумилевском творчестве мотивы, близкие «эстетике жизни» русского писателя и религиозного мыслителя А.Н. Леонтьева. По его глубокому убеждению, ценностное отношение к красоте не сводимо к художественным впечатлениям. Так, в своей переписке с В.В. Розановым он признавался, как его раздражает то, что «боязливое, слабонервное, маловерующее человечество радо-радещенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках сцены … и на страницах романов, а в действительности – «избави Боже!» [10, с. 583-584 ]. Альтернативой созерцательно-гедонистическому отношению к ценности красоты являлась для Леонтьева «видимая эстетика жизни», трактуемая как онтологический «признак внутренней, практической… творческой силы» [Там же, с. 585].
Архитектоника и полистилистика творческого наследия Николая Гумилева удивительным образом оказываются тождественными эстетическим воззрениям писателя-мыслителя, для которого высшая эстетическая ценность и подлинная красота – это «видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни» [Там же, с. 586]. Гумилевский образ жизни и поразительная плодовитость поэта выявляют ряд тех ментальных свойств, которые в пору Серебряного века были скорее исключением, нежели нормой. В художественной среде этой культурной эпохи Гумилев был если и не «чужим», то уж, о крайней мере, «странным», о чем он и не раз писал:
Я вежлив с жизнью современною, Но между нами есть преграда -Все, что смешит ее, надменную, Моя единая отрада [7, с. 236],
Правда, судя по тематическому разнообразию его поэтических циклов, новелл и путевых записок, «жизненный мир» Гумилева не сводился к «единой отраде», систематически обогащаясь новыми впечатлениями. Одно из свидетельств этого - экспрессия поэтического пера, направленная не только на мотивы о том, что «в каждой луже запах океана, / в каждом камне веянье пустынь», но и на воспевание того типа человека, который верен до конца ценностям свободомыс- лия, великих свершений, и идее собственного восхождения к идеалу. Представляется в этой связи, что поэтика и эстетика гумилевского наследия подтверждают мысль В.Г. Белинского о том, что «всякое произведение искусства есть плод вдохновенного усилия художника – вывести наружу, осуществить вовне внутренний мир своих бесплотных идеалов» [3, с. 487 ].
Установки поэта на «великий праздник многообразной жизни» были плодотворно осуществлены , уже отмечалось, и в «формах жизни», и в «формах культуры». Экспрессия поэтического пера Гумилева неотделима о того типа переживаний, который был намного позднее определён великим подвижником гуманизма Альбертом Швейцером как «этика благоговения перед жизнью. Пассионарность поэта ярко проявилась не только в стихотворной форме, но и в его путешествиях по Европе, Африке и Ближнему Востоку, в доблестном участии в Первой Мировой войне, в креативной энергетики педагогической деятельности. Поэтика и эстетика гумилевского наследия неотделимы от той идеи жиз-нетворчества, которая обрела особое место в культурном контексте «русского Ренессанса». Сама же эта идея сопрягалась с такими религиозно-философскими направлениями на рубеже XIХ–ХХ столетий, как Теургия и русский космизм. У Николая Гумилева теургический «след» проявляется в уникальном опыте сочетания его поэзии с определёнными гранями жизнетворчества. Готовность к подобному сочетанию ценностей жизни в её разнообразных проявлениях и ценностей культуры не раз воспевалась поэтом:
Поэтическому миру Николая Гумилева были созвучны и русский космизм. Космогонический гнозис переживаний, запечатленный в ряде его стихотворений, проявляется во многих смысловых нюансах, включая фу- турологический. Страстная вера поэта в то, что когда-нибудь «наконец, корабли марсиан/ У земного окажутся шара,,, », неотделима от его духовных исканий и обретений.
Существенной чертой гумилевского наследия является культовое отношение к эстетике природных явлений, к эстетической ценности ландшафтного и этнокультурного разнообразия. Неслучайно ряд его поэтических циклов выявляет тягу к трансцендентным мотивам, выраженным в образной форме: Солнце духа, Индия духа, символ горнего величья. Эти мотивы и их вербализация наводят на мысль о близости гумилевского мироощущения космологическим мотивам художника-мыслителя Николая Рериха. И живопись Рериха и поэзия Гумилева дают повод для сопряжения их творческого наследия с понятием «эстетический гуманизм». Их опыт следования идеалу «полноты бытия» и полисемантика творческого наследия свидетельствуют о том, «… чем шире круг осмысляемых художником жизненных явлений, тем шире аксиологический спектр их образного воссоздания в произведении искусства» [9, с.129 ].
Смысловая емкость и полифония поэзии Николая Степановича Гумилева отражают собой не только ценностные установки акмеизма как особой художественно-творческой системы, утверждающей возможность гармонии ценностей жизни и ценностей культуры, но и различные грани индивидуального опыта постижения мировоззренческих проблем. С этой точки зрения, ряд его произведений можно рассматривать как тексты, включенные в поэтический полилог Серебряного века. Видное место интеллектуально-художественного полилога в культурном пространстве Серебряного века было обусловлено, по свидетельству Андрея Белого тем, что «в свете искания новых путей философского мышления художники, философы и ученые одинаково озабочены пересмотром отношений, существующих между знанием, верой, познанием, творчеством; всех одинаково кровно касаются эти вопросы.»[4, с.39 ]. Все это н могло не повлиять и на Николая Гумилева: как на его «мотивационный контекст творчества» (М.М. Бахтин), так и на процессы поискоа собственных способов выражения ценностного отношения к жизни и искусству.
Ценностно-смысловые основания поэтического полилога в значительной мере были обусловлены тем, что в культурных реалиях Серебряного века «русская богословско-эстетическая теодицея и художественное оправдание жизни искусством сошлись в общей точке положительной эстетики жизни и истории» [8, с. 307 ]. Специфика поэтического полилога между адептами символического, акмеистического и футуристического направлений связана не только с содержательностью творческой полемики, но и с артистистическим самоутверждения её участников.
Полемический «дух» отечественной культуры начала ХХ столетия распространился и на проблематику стихосложения как особого вида самовыражения творческой индивидуальности. В гумилевского наследия отклик на эту проблематику обнаруживается как «просвечивание» следов органицизма и экзистенциализма. В размышлениях Николая Гумилева о природе поэтического творчества существенное место отводилось вопросу о ценности «первоначальных впечатлений», влияющих на возникновение авторского замысла и интонационного строя стихотворения. Другой момент рефлексирования над поэзией как эстетическим феноменом связан с установкой Гумилева на совершенство стихотворного текста. Как видно по его «Письмам о русской поэзии, он был глубоко убеждён в том, что «стихотворение должно быть слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства». [6, с. 44 ].
Контекст творческого наследия Николая Гумилева неотделим по своей сути от его «ценностного топоса» (М.М. Бахтин»), акмеистической установки на «вершинность» творческого пути и благоговения перед источниками вдохновения. Один из них – не раз воспетая в стихах Гумилева Муза:
Та, чей дух – крылатый метеор,
Та, чей мир в святом непостоянстве, Чье названье – Муза Дальних Странствий [7, с.193. ].
К тональности поэтических циклов Н.С. Гумилева,, исполненных «страсти по высокому», Гумилева вполне приложимы, на мой взгляд, такие понятия, как «эрос духа» (Платон), «субъективное вдохновение» (Гегель), «трепет изумления» (П.А. Флоренский). Все эти оттенки эмоциональной окрашенности гумилевского наследия в немалой степени способствуют тому, что Имя поэта, как и созданный им художественный метатекст, не только не «канули в Лету», но и своеобразно существуют в «Большом времени» культуры1. Причем они существуют не только в качестве раритета, но и как «причастная единственность» опыта экзистенциальных переживаний Н.С. Гумилева, и как аксиологический образец духовно- практического освоения мира. Его деятельная и этическая верность идеалу «полноты Бытия» и воспетая им магия «шестого чувства» до сих пор способны пробудить креативные задатки и интенции личности как потенциального субъекта культуры.
Смысловая емкость, полистилистика и интонационно богатство творческого наследия Николая Степановича Гумилева отражают собой не только ценностные установки акмеизма как особой художественной системы, но и культурную значимость Поэта. Благодаря своеобразию его многогранного опыта творческого воплощения «гнозиса переживаний» в адрес ценностей жизни и фундаментальных ценностей культуры многие его произведения обретают статус духовно-душевного открытия. С этой точки зрения стоит ещё раз процитировать самого Николая Гумилева:
Всю эту жизнь многообразную,
Не помышляя об иной,
Я, как великий праздник праздную
Как нектар, воздух пью земной.
И Судия, с лазури пламенной Диктующий нам свой закон, Признает, верую, что правильно Мой путь был мною совершен.
[Гум. 1988, с. 517 ].
Список литературы Творческое наследие Николая Гумилева как предмет культурфилософской рефлексии
- Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. Санкт-Петербург: Азбука, 2000. 332 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1986. 445 с.
- Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. – Том 1. М.: Искусство, 1986. 559 с.
- Белый А.Н. Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994. 528 с.
- Гумилев Н.С. Избранное. – Москва: Просвещение, 1990. 383 с.
- Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. – Москва: Современник, 1990. 447 с.
- Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Ленинград: Советский писатель, 1988. 651 с.
- Исупов К.Г. Эстеты на Башне // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербург. Гос. ун-та, 2006. С. 300-309.
- Каган М.С. (1997). Философская теория ценностей. Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 205 с.
- Леонтьев К.Н. Избранные письма. Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 1993.. С. 582-588.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Миф-имя-культура».\\ Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т. 1. – Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн: Александра, 1992.. С. 58-75.
- Мандельштам О.Э. Утро акмеизма. // Мандельштам О.Э. Слово и культура. Москва: Советский писатель, 1987. С. 168-172.
- Эткинд Е.Г. Единство «серебряного века». Москва: Звезда. №12.1989. С. 185-194.