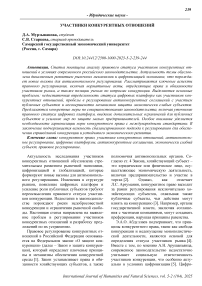Участники конкурентных отношений
Автор: Мурзыванова Д.А., Старцева С.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу правового статуса участников конкурентных отношений в условиях современного российского законодательства. Актуальность темы обусловлена динамичным развитием рыночных механизмов и цифровизацией экономики, что порождает новые вызовы для антимонопольного регулирования. Рассматриваются ключевые аспекты правового регулирования, включая нормативные акты, определяющие права и обязанности участников рынка, а также позиции ученых по вопросам конкуренции. Выделяются основные проблемы: недостаточная определенность статуса цифровых платформ как участников конкурентных отношений, пробелы в регулировании антиконкурентных соглашений с участием публичных субъектов и несовершенство механизмов защиты экономически слабых субъектов. Предлагаются конкретные меры по совершенствованию законодательства, включая уточнение правового статуса цифровых платформ, введение дополнительных ограничений для публичных субъектов и усиление мер по защите малых предпринимателей. Особое внимание уделяется необходимости гармонизации норм конкурентного права с международными стандартами. В заключение подчеркивается важность сбалансированного подхода к регулированию для обеспечения справедливой конкуренции и устойчивого экономического развития.
Конкурентное право, участники конкурентных отношений, антимонопольное регулирование, цифровые платформы, антиконкурентные соглашения, экономически слабый субъект, правовое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170209372
IDR: 170209372 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-239-244
Текст научной статьи Участники конкурентных отношений
Актуальность исследования участников конкурентных отношений обусловлена стремительным развитием рыночной экономики, цифровизацией и глобализацией, которые формируют новые вызовы для антимонопольного регулирования. Изменения в структуре рынков, появление цифровых платформ и усиление роли публичных субъектов требуют переосмысления правового статуса участников конкуренции. Недостатки в законодательстве порождают риски недобросовестной конкуренции и ограничения рыночной свободы. Настоящая статья направлена на выявление проблем в регулировании участников конкурентных отношений и разработку предложений по их устранению.
Правовое регулирование конкурентных отношений в Российской Федерации основывается на Федеральном законе «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), который определяет ключевые принципы и механизмы обеспечения конкурентной среды [1]. Закон устанавливает права и обязанности хозяйствующих субъектов, а также полномочия антимонопольных органов. Согласно ст. 4 Закона, хозяйствующий субъект – это юридическое или физическое лицо, осуществляющее экономическую деятельность, включая предпринимательство и участие в торгах [2]. Однако, как отмечает Л.С. Арзуманян, конкурентное право выходит за рамки регулирования исключительно хозяйствующих субъектов, охватывая также публичные субъекты, чьи действия могут влиять на конкуренцию [3]. Например, органы государственной власти, заключая соглашения с частными компаниями, могут создавать преференции, нарушая принципы равенства.
Э.А.О. Абдуллаев подчеркивает, что принципы конкурентного права, такие как свобода конкуренции и недопущение монополистической деятельности, являются основой для определения статуса участников рынка [4]. Вместе с тем, по мнению А.Н. Арушаньянца, современное законодательство недостаточно учитывает социальную ответственность участников конкуренции, что особенно актуально в условиях цифровизации [5]. Цифро- вые платформы, такие как маркетплейсы и агрегаторы, выступают новыми участниками конкурентных отношений, однако их правовой статус остается неопределенным. Это подтверждает и Е.В. Катаева, указывая на необходимость адаптации норм к цифровой экономике [6].
Мнения ученых по вопросу участников конкурентных отношений разнообразны. И.Н. Клименков акцентирует внимание на необходимости четкого разграничения прав и обязанностей между хозяйствующими субъектами и государственными органами [7]. В то же время В.А. Илюхина отмечает, что конкуренция принципов права создает методологические сложности при определении приоритетов регулирования [8]. Например, принцип свободы договора может вступать в противоречие с принципом защиты конкуренции, что требует дополнительных законодательных уточнений. И.Д. Глазкова подчеркивает важность развития предпринимательской деятельности как фактора усиления конкуренции, но указывает на недостаточную защиту малых и средних предприятий [9].
Переходя к анализу проблем, следует выделить три ключевые сложности в правовом регулировании участников конкурентных отношений. Первая проблема связана с неопределенностью правового статуса цифровых платформ. Закон о защите конкуренции не содержит специальных норм, регулирующих деятельность маркетплейсов и агрегаторов, которые одновременно выступают посредниками и конкурентами для других участников рынка. Как отмечает А.Н. Арушаньянц, «цифровые платформы создают уникальные условия для конкуренции, однако их двойственная роль не отражена в законодательстве» [5]. Это приводит к ситуациям, когда платформы могут устанавливать дискриминационные условия для продавцов или ограничивать доступ к рынку. Например, практика навязывания эксклюзивных условий сотрудничества маркет-плейсами не всегда квалифицируется как нарушение антимонопольного законодательства.
Вторая проблема заключается в пробелах регулирования антиконкурентных соглашений с участием публичных субъектов. Согласно ст. 16 Закона о защите конкуренции, запрещаются соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами, которые ограничивают конкуренцию. Однако, как подчеркивает И.Н. Клименков, отсутствие четких критериев квалификации таких соглашений затрудняет правоприменение [7]. Например, государственные закупки нередко сопровождаются неформальными договоренностями, которые создают преимущества для отдельных участников. Это подтверждается практикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в 2024 году выявила более 300 нарушений в сфере торгов [10].
Третья проблема связана с недостаточной защитой экономически слабых субъектов, таких как малые и средние предприятия. И.Д. Глазкова отмечает, что административная ответственность за недобросовестную конкуренцию не всегда эффективна для защиты небольших компаний от действий крупных игроков [9]. Например, ст. 14.31 КоАП РФ устанавливает штрафы за злоупотребление доминирующим положением, но их размер часто несущественен для крупных корпораций. Это приводит к тому, что малые предприниматели оказываются в уязвимом положении, особенно на цифровых рынках, где доминируют крупные платформы.
Для решения обозначенных проблем предлагаются следующие меры. Во-первых, необходимо дополнить Закон о защите конкуренции положениями, регулирующими деятельность цифровых платформ. В частности, предлагается ввести в ст. 4 Закона определение «цифровая платформа» как хозяйствующий субъект, обеспечивающий взаимодействие между продавцами и покупателями через цифровую инфраструктуру. Кроме того, следует установить запрет на дискриминационные условия доступа к платформам, дополнив ст. 10 Закона соответствующей нормой. Это позволит устранить неопределенность и обеспечить равные условия для всех участников рынка. Как справедливо отмечает Е.В. Катаева, «адаптация законодательства к цифровой среде – ключевой фактор сохранения конкуренции» [6].
Во-вторых, для устранения пробелов в регулировании антиконкурентных соглашений с участием публичных субъектов предлагается уточнить критерии их квалификации в ст. 16 Закона о защите конкуренции. Например, можно ввести понятие «неформальное согла- шение», под которым будут пониматься любые договоренности, создающие преимущества для отдельных участников без публичного обоснования. Также целесообразно усилить контроль за государственными закупками путем обязательного предварительного анализа контрактов на предмет антиконкурентных рисков. Это предложение поддерживает И.Н. Клименков, который указывает на необходимость «повышения прозрачности публичных процедур» [7].
В-третьих, для защиты экономически слабых субъектов предлагается пересмотреть подход к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию. В частности, ст. 14.31 КоАП РФ следует дополнить нормой, предусматривающей дифференцированные штрафы в зависимости от размера компании-нарушителя. Например, для крупных корпораций штрафы должны составлять не менее 1% от годового оборота, что сделает санкции более ощутимыми. Кроме того, целесообразно ввести механизм компенсации убытков малым предприятиям, пострадавшим от недобросовестной конкуренции, через упрощенную судебную процедуру. Как подчеркивает И.Д. Глазкова, «защита малых предпринимателей – залог устойчивого развития экономики» [9].
Анализируя возможные пути совершенствования законодательства, нельзя игнорировать международный опыт. Например, в Европейском союзе действует Регламент (EU) 2022/1925 о цифровых рынках, который устанавливает строгие правила для крупных платформ, таких как Amazon и Google. Введение аналогичных норм в российское законодательство могло бы повысить эффективность регулирования цифровых рынков. Однако, как отмечает Э.А.О. Абдуллаев, любые заимствования должны учитывать национальные особенности правовой системы [4].
Дополнительно стоит рассмотреть вопрос о гармонизации норм конкурентного права с международными стандартами. В условиях глобализации рынков российское законодательство должно соответствовать требованиям Всемирной торговой организации и других международных организаций. Это особенно важно для защиты российских компаний на зарубежных рынках, где они сталкиваются с жесткой конкуренцией. Как указывает
А.Н. Арушаньянц, «социально ответственная конкуренция требует согласованности национальных и международных норм» [5].
Переходя к более детальному анализу правового статуса участников конкурентных отношений, следует отметить, что Закон о защите конкуренции охватывает широкий круг субъектов, включая не только хозяйствующие субъекты, но и органы власти, а также физических лиц, участвующих в экономической деятельности. Однако отсутствие четкого разграничения между этими категориями создает сложности в правоприменении. Например, физические лица, действующие как индивидуальные предприниматели, нередко сталкиваются с ограничениями, которые изначально предназначались для крупных корпораций. Это подтверждает С.Ф. Афанасьев, который указывает на «необходимость дифференцированного подхода к субъектам конкуренции» [11].
Цифровизация экономики добавляет новые измерения к проблеме. Цифровые платформы, такие как Яндекс.Маркет или Ozon, не только обеспечивают доступ к рынку, но и формируют правила игры, что делает их ключевыми участниками конкурентных отношений. Однако их деятельность выходит за рамки традиционного понимания хозяйствующего субъекта. Например, платформы могут собирать данные о поведении потребителей и использовать их для продвижения собственных товаров, что создает неравные условия для других продавцов. Как отмечает А.Н. Аруша-ньянц, «цифровые платформы становятся своеобразными регуляторами рынка, что требует нового подхода к их правовому статусу» [5].
Еще одной важной категорией участников являются публичные субъекты, включая органы государственной власти и местного самоуправления. Их влияние на конкуренцию может быть как позитивным, так и негативным. Например, предоставление государственных субсидий или налоговых льгот отдельным компаниям нередко искажает конкурентную среду. Закон о защите конкуренции в ст. 15 запрещает государственным органам принимать акты, ограничивающие конкуренцию, однако на практике такие нарушения встречаются регулярно. Это подтверждается статистикой ФАС, согласно которой в 2024
году более 30% дел о нарушении антимонопольного законодательства были связаны с действиями публичных субъектов [10].
Экономически слабые субъекты, такие как малые и средние предприятия, также требуют особого внимания. Их уязвимость обусловлена не только ограниченными ресурсами, но и недостаточной правовой защитой. Например, крупные компании могут использовать свое доминирующее положение для навязывания невыгодных условий сотрудничества, что особенно заметно на цифровых рынках.
Рассматривая пути решения обозначенных проблем, стоит уделить внимание не только законодательным изменениям, но и совершенствованию правоприменительной практики. Антимонопольные органы должны активнее использовать инструменты предварительного контроля, особенно в отношении цифровых платформ и публичных субъектов. Например, введение обязательного уведомления о создании новых платформ могло бы позволить ФАС оценивать их потенциальное влияние на конкуренцию еще на этапе запуска. Это предложение перекликается с идеей И.Н. Клименкова о необходимости «проактивного подхода к антимонопольному регулированию» [7].
Кроме того, важно развивать судебную практику в сфере конкурентного права. Как показывает анализ, суды нередко сталкиваются с трудностями при квалификации нарушений, особенно связанных с цифровыми платформами. Введение специализированных судебных составов по антимонопольным делам могло бы повысить качество правоприменения. Это особенно актуально в свете роста числа споров, связанных с недобросовестной конкуренцией. Как отмечает В.А. Илюхина, «методологические проблемы правоприменения требуют системного подхода» [8].
В контексте защиты экономически слабых субъектов целесообразно развивать механизмы коллективных исков, которые позволили бы малым предприятиям объединять усилия для защиты своих прав. Например, создание ассоциаций предпринимателей, поддерживаемых государством, могло бы усилить их позиции в переговорах с крупными игроками. Это предложение поддерживает И.Д. Глазкова, которая подчеркивает, что «коллективные механизмы защиты повышают устойчивость малого бизнеса» [9].
Анализируя долгосрочные перспективы, следует отметить, что развитие конкурентного права невозможно без учета социальных и экологических аспектов. Как указывает А.Н. Арушаньянц, конкуренция должна быть не только экономически эффективной, но и социально ответственной [5]. Это предполагает введение дополнительных критериев оценки действий участников рынка, таких как их влияние на окружающую среду или социальное неравенство. Например, крупные компании могли бы обязать раскрывать информацию о своих социальных и экологических инициативах, что повысило бы прозрачность их деятельности.
Вместе с тем нельзя игнорировать риски чрезмерного регулирования. Как подчеркивает Э.А.О. Абдуллаев, «чрезмерное вмешательство государства может подавить инициативу участников рынка» [4]. Поэтому любые нововведения должны быть тщательно проработаны с учетом баланса интересов всех сторон. Например, введение новых ограничений для цифровых платформ не должно препятствовать их инновационной деятельности, которая является драйвером экономического роста.
Подводя итоги, можно констатировать, что правовое регулирование участников конкурентных отношений требует комплексного подхода, учитывающего как национальные особенности, так и глобальные тенденции. Цифровизация, усиление роли публичных субъектов и уязвимость малых предпринимателей формируют новые вызовы, которые невозможно игнорировать. Предложенные меры, включая уточнение статуса цифровых платформ, усиление контроля за антиконкурентными соглашениями и защиту экономически слабых субъектов, направлены на устранение существующих пробелов и обеспечение справедливой конкуренции.
Выводы по работе:
-
1. Участники конкурентных отношений представляют собой сложную и многогранную категорию, включающую хозяйствующие субъекты, публичные органы и физических лиц. Их правовой статус требует дальнейшего уточнения, особенно в условиях цифровизации экономики.
-
2. Основные проблемы регулирования связаны с неопределенностью статуса цифровых платформ, пробелами в регулировании антиконкурентных соглашений с участием публичных субъектов и недостаточной защитой экономически слабых субъектов. Эти проблемы носят конкретный характер и требуют адресных законодательных изменений.
-
3. Предложенные меры, такие как введение определения «цифровая платформа» в Закон о защите конкуренции, уточнение критериев антиконкурентных соглашений и дифференциация штрафов, направлены на повышение эффективности регулирования. Они учитывают как национальные особенности, так и международный опыт.
-
4. Развитие конкурентного права должно быть сбалансированным, чтобы избежать
-
5. В долгосрочной перспективе конкурентное право должно учитывать социальные и экологические аспекты, что сделает конкуренцию не только экономически эффективной, но и социально ответственной. Это особенно актуально в условиях глобализации и усиления международной конкуренции.
-
6. Реализация предложенных мер требует взаимодействия между законодателями, антимонопольными органами и участниками рынка. Только совместные усилия позволят создать устойчивую и справедливую конкурентную среду, способствующую экономическому росту и общественному благополучию.
чрезмерного вмешательства государства, которое может подавить рыночную инициативу. Важно развивать не только законодательство, но и правоприменительную практику, вклю- чая судебные и административные механизмы.
Таким образом, исследование подтверждает необходимость дальнейшей работы над со- вершенствованием правового регулирования участников конкурентных отношений, что станет залогом устойчивого развития российской экономики.