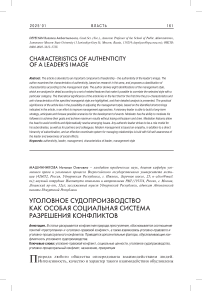Уголовное судопроизводство как особая социальная система разрешения конфликтов
Автор: Машинникова Н.О.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается конфликтная природа преступления, обосновывается соотношение понятий «преступление» и «уголовно-правовой конфликт», а также взаимосвязь уголовно-правового и уголовно-процессуального конфликтов. Приводятся дополнительные факторы, обусловливающие конфликтность уголовного судопроизводства.
Уголовно-правовой конфликт, социальные ценности, уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальный конфликт, назначение, презумпция
Короткий адрес: https://sciup.org/170209090
IDR: 170209090 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-1-161-166
Текст научной статьи Уголовное судопроизводство как особая социальная система разрешения конфликтов
П рирода любого общества опосредована взаимодействием людей.
Интенсивность, качество и характер такого взаимодействия обусловлены множеством объективных и субъективных факторов. Дефицит ресурсов непременно приводит к противостоянию и в дальнейшем – к возникновению конфликтов, разрешение которых и управление которыми является стратегической задачей государства.
К сожалению, до настоящего времени в отечественной науке отсутствует развитая конфликтологическая теория, которая облегчала бы выработку и освоение эффективных средств адекватного осмысления возникающих конфликтных ситуаций, их предупреждения или разрешения с помощью применения соответствующей социальной терапии [Васильева, Глухова, Дмитриев 1999: 4]. Данная ситуация обусловлена тем, что с середины ХХ в. в государстве господствовала бесконфликтная теория развития, которая оказала свое безусловное влияние на формирование действующей правовой системы. Особую сложность для создания универсальной конфликтологической теории представляет разнородность объекта исследования, т.е. всех тех явлений, которые можно подвести под понятие «конфликт».
Качественные характеристики конфликта обусловлены сферой приложения конфликтных отношений, их интенсивностью, наличием либо отсутствием в них общественной опасности, степенью последней и их способностью повлечь за собой негативные последствия.
Правовая составляющая теории конфликта опосредована необходимостью выявления в ней подходов, элементов и сюжетов юридического характера. Особого внимания государства требуют конфликты, которые несут в себе угрозу общественной безопасности и характеризуются противоправностью, в связи с чем требуют незамедлительной реакции должностных лиц, которая должна находить свое выражение не только в пресечении таких конфликтов и привлечении к ответственности лиц, в них виновных, но и в обеспечении, защите и восстановлении прав лиц, так или иначе вовлеченных в конфликт, и последующей за ним процедуре разрешения конфликта. Речь идет о криминальном конфликте, включающем в себя уголовно-правовой (первичный) конфликт и производные от него уголовно-процессуальные конфликты.
Любой конфликт, представляя собой способ определения дозволенного в социальной группе, позволяет определить границы социально приемлемого поведения. Особенностью уголовно-правового конфликта является то, что мера дозволенного установлена не социальной группой, а государством, в связи с чем не всегда при таком конфликте воля потерпевшей стороны на отказ от стигматизации является решающей.
Не соглашаясь с многочисленными авторами, которые исходят из равнозначности понятий «преступление» и «уголовно-правовой конфликт» [Колесник 2024; Зайцева и др. 2022], следует признать справедливым мнение Х. Зера, что конфликтная природа преступления не имеет значения для карательного правосудия1. Указанный вывод обусловлен тем, что при карательной форме уголовного судопроизводства важен факт репрессии и ее результат. Действительно, силе не нужно право и те права, которые оно защищает. Сила может взять все сама. Однако при таком подходе неотвратимо происходит удешевление правовых ценностей и растет уровень недоверия общества к государству.
В свою очередь, восстановительное правосудие ориентировано на обеспечение, защиту и восстановление прав его участников и лиц, так или иначе в него вовлеченных. Оно основано на конфликтологическом подходе к разрешению уголовно-правовых споров, направлено на достижение баланса интересов его участников и гармонизацию уголовно-процессуальных гарантий прав личности и дифференциации уголовно-процессуальной формы на судебной и досудебной стадиях разрешения уголовно-правового конфликта.
Уголовный и уголовно-процессуальный законы опосредуют собой предмет правовой, а не социологической действительности, в связи с чем используют юридические, а не социологические и, тем более, не психологические дефиниции. Однако отсутствие в их текстах конфликтологических категорий не исключает наличие уголовно-правовых и вытекающих из них уголовно-процессуальных конфликтов.
Более того, само преступление представляет собой конфликт, способ разрешения которого установлен уголовно-процессуальным законодательством. Характерной же особенностью такого конфликта является то, что ведущую роль в его управлении занимает государство в лице правоохранительных и судебных органов.
Уголовное судопроизводство, обеспечиваемое государственным принуждением, представляет собой форму проявления государственной власти. Последняя, являясь способом взаимодействия людей в обществе, не только является институционно ограниченным ресурсом, позволяющим принимать управленческие решения, но и сама представляет источник конфликтов.
Цивилизационное значение материального уголовного законодательства и уголовно-процессуального законодательства состоит в том, что первое из них определяет закрытый перечень деяний, за совершение которых возможна стигматизация, а второе устанавливает основания и порядок ее наступления, закрепляет процессуальные гарантии, устанавливает презумпции, чем фиксирует юридические границы использования государством принуждения и репрессии.
Уголовное судопроизводство представляет собой уникальную социальную систему, обладающую устойчивыми характерными чертами, приобретенными им в период собственного развития. Создание и законодательное закрепление процедуры, в рамках которой происходит установление лица, причастного к совершению преступления, и привлечение его к уголовной ответственности с предоставлением ему определенных процессуальных прав и гарантий, соответствующих конкретному историческому этапу развития государства, является культурным, социальным и политическим завоеванием общества, стремящегося оградить себя от произвола административных органов в контексте государственного принуждения и уголовной репрессии.
В научной литературе давно идет спор, является ли вообще уголовный процесс конфликтом между сторонами – обвинителем и обвиняемым (и защитником) или он представляет собой взаимодействие – сотрудничество сторон для отыскания истины. По мнению В.М. Харзиновой, именно в этом вопросе заключается суть методологического подхода к проблеме конфликтов [Харзинова 2019]. В свою очередь, В.Н. Кудрявцев полагает, что уголовный процесс представляет собой конфликт, в котором стремления каждой из сторон направлены к одной цели – истине, но каждая из сторон идет к ней своим путем [Основы конфликтологии… 1997: 157]. Полагаем, что в части утверждения о наличии у сторон общей цели, которая, по мнению автора, представляет собой поиск истины, согласиться нельзя, поскольку, напротив, лицо, обоснованно привлекаемое к уголовной ответственности, опасаясь наказания, едва ли будет иметь целью свое разоблачение. Однако данное мнение отнюдь не опровергает наличие у сторон конфликта общей цели, которая действительно достигается разными способами. Однако цель эта – разрешить уголовно-правовой конфликт с наиболее выгодным для себя результатом. Даже в том случае, когда между сторонами отсутствует спор относительно деяния, его квалификации и вины лица, привлекаемого к уголовной ответственности, то по результатам разрешения уголовно-правового конфликта каждый преследует свои ожидания: потерпевший – возместить ущерб, получить извинения, восстановить права и т.д.; лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, – минимизировать последствия стигматизации либо ее избежать.
В связи с этим под уголовно-процессуальным конфликтом следует понимать противостояние (противодействие) субъектов уголовно-процессуального права по поводу уголовно-правовых, материально-правовых, уголовнопроцессуальных прав, свобод, законных интересов и морально-нравственных ценностей, реализуемое в форме правоотношения и разрешаемое специальными уголовно-процессуальными способами, установленными в нормах уголовно-процессуального права.
В свою очередь, материальное уголовное законодательство, которым устанавливается преступность и наказуемость того или иного деяния, является своеобразным маркером потребностей личности, общества и государства в безопасности, нарушение которых создает конфликт. Каждая норма, закрепленная в Особенной части материального закона, представляет собой «сигнальный флажок», выход за который автоматически влечет за собой реакцию государства.
В системной взаимосвязи причины уголовно-правовых и уголовно-процессуальных конфликтов, способы их разрешения и юридические формы, их опосредующие, в науке уголовно-процессуального права до настоящего времени не исследовались.
Уголовно-процессуальное законодательство представляет собой совокупность норм, направленных на разрешение уголовно-правового конфликта, в состоянии которого находятся его участники. Указанные нормы содержат правила разрешения уголовно-правового конфликта, способ и форму разрешения, закрепляют принципы разрешения уголовно-правового конфликта. В силу того, что отечественное уголовное судопроизводство является смешанным по своему типу, сочетающим в себе признаки как следственного, так и состязательного процесса, внутренняя несогласованность уголовно-процессуальных норм, а иногда и их взаимное противоречие самостоятельно могут порождать уголовно-процессуальные (процедурные) конфликты.
Дополнительную конфликтность в уголовное судопроизводство, на наш взгляд, привносит то обстоятельство, что далеко не каждый его профессиональный участник, будь то следователь, прокурор, адвокат либо судья, ощущает разницу между обвиняемым и лицом, совершившим преступление. В связи с этим указанные лица не видят разницы между уголовно-процессуальным законом, предназначенным для обвиняемых, и уголовным законом, предназначенным для лица, совершившего преступление (преступник). Такая ошибка, которая находит свое выражение в подмене уголовно-процессуального способа деятельности, основанного на презумпции невиновности, уголовно-правовым способом деятельности, обусловленным презумпцией виновности, приводит не только к серьезным уголовно-процессуальным конфликтам, но и к неправосудным приговорам.
Полагаем, что в свете последних трендов на гуманизацию уголовного законодательства актуализировалась необходимость комплексного исследования уголовного судопроизводства с точки зрения деятельностного подхода, который включает в себя конфликтологический и антропологический аспекты. Последние позволяют исследовать нормативные предписания уголовнопроцессуального подхода с позиции индивидуальных, субъективных начал и причин конфликтов, а также готовности субъектов, сопровождающих уголовное судопроизводство, либо лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения, к отдельным способам и процедурам их разрешения.
Уголовное судопроизводство ограничивает ту область деятельности людей, которая развивается в связи и вокруг совершенного преступного деяния, образуя некую целостность. Между тем любая совместная деятельность, тем более та, участие в которой некоторых ее участников обеспечивается силой государственного принуждения, абсолютно не презюмирует достижение между ними единства и сходных позиций относительно предмета такой деятельности. Обращаясь к стадии судебного разбирательства как к наиболее яркому примеру уголовно-процессуальной деятельности, мы видим, что, как правило, ситуация складывается следующим образом: обвинитель обвиняет; подсудимый отрицает обвинение; судья, при отсутствии у него предвзятости в отношении материалов дела либо его участников, критикует сначала одного, а затем другого участника процесса. При этом достижение цели уголовного судопроизводства предполагается за счет совместной деятельности его участников, в т.ч. и при противоположных позициях сторон относительно предмета уголовно-правового спора.
В связи с тем, что невозможно познать сущность и значение уголовно-правового конфликта как первичного и уголовно-процессуального – как производного без учета теоретико-методологических знаний о социальных и юридических конфликтах, к которым они относятся, необходимо и обоснованно говорить о криминальной конфликтологии как структурном элементе уголовно-процессуального права. Обращение же к смежным областям знаний, а именно к юридической конфликтологии, антропологии, социологии и психологии, является вынужденным, поскольку они позволяют обобщить, расширить и систематизировать научные представления об уголовно-правовом и уголовно-процессуальном конфликтах, способах их разрешения и управления ими специальными юридическими средствами, предусмотренными нормами уголовно-процессуального права, а также их превенции, в т.ч. иными социальными средствами.
В свою очередь, достаточный уровень развития теоретико-методологических основ конфликтологии, включая юридическую, дает возможность вести речь о формировании криминальной конфликтологии как структурного элемента уголовно-процессуального права.
Список литературы Уголовное судопроизводство как особая социальная система разрешения конфликтов
- Васильева Е.И., Глухова А.В., Дмитриев А.В. 1999. Конфликты в современной России: проблемы анализа и регулирования. М.: Эдиториал. 464 с. EDN: SXPCYR
- Зайцева Л.Л., Моисеева И.А., Орловская Л.Г., Петрова О. В., Самарин В.И., Третьяков Г.М. 2022. Переговоры и посредничество по уголовным делам (под ред. Л.Л. Зайцевой). Минск: Изд-во БГУ. 304 с. EDN: KSNGUF
- Колесник В.В. 2024. Концепция договорных отношений в примирительных, ускоренных и согласительных процедурах уголовного судопроизводства: дис. … д.ю.н. Пермь. 575 с. EDN: DISGKU
- Основы конфликтологии: учебное пособие (под ред. В.Н. Кудрявцева). 1997. М.: Юристъ. 194 с.
- Харзинова В.М. 2019. Некоторые особенности изучения криминального конфликта в уголовном процессе. - Пробелы в российском законодательстве. Вып. 2. С. 184-185. EDN: QOMESY