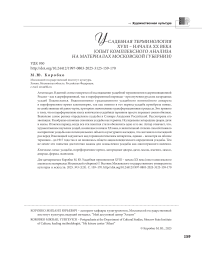Усадебная терминология XVIII – начала XX века (опыт комплексного анализа на материалах Московской губернии)
Автор: Коробко М.Ю.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье говорится об исследовании усадебной терминологии в дореволюционной России – как в дореформенный, так и пореформенный периоды – при изучении русских загородных усадеб Подмосковья. Видоизменение традиционного усадебного понятийного аппарата в пореформенное время закономерно, так как именно в тот период усадьба приобрела новые, не свойственные ей ранее черты, претерпев значительные трансформационные процессы. Это привело к тому, что в пореформенную эпоху количество усадебных терминов просто поражает своим обилием. Выявлено самое раннее определение усадьбы в Словаре Академии Российской. Рассмотрена его эволюция. Разобраны основные синонимы усадьбы как термина. Исследованы загородные дворы, дачи и мызы. Отмечен период, когда все эти понятия стали обозначать одно и то же. Автор отмечает, что, художественное изучение усадеб, возникшее в начале ХХ века, в значительной степени способствовало восприятию усадьбы как потенциального объекта культурного наследия, что заставило в последний раз перед Революцией задуматься над терминологическим аппаратом, однако – несмотря на обилие терминов – до 1917 года так и не появилось общего энциклопедического определения усадьбы. Тем не менее эти попытки достаточно важны для осмысления усадьбы как многогранного явления.
Усадьбы, пореформенное время, загородные дворы, дачи, мызы, имения, замки, дворцы, фермы, экономии
Короткий адрес: https://sciup.org/144163487
IDR: 144163487 | УДК: 930 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-159-170
Текст научной статьи Усадебная терминология XVIII – начала XX века (опыт комплексного анализа на материалах Московской губернии)
Слово «усадьба» в понимании, близком к современному, прослеживается по крайней мере с XVII века. Однако оно использовалось нечасто. В писцовых и переписных книгах обычно употреблялись выражения «двор вотчинников» (вотчины – родовые или приобретенные имения) и «двор помещиков» (поместья – имения, дававшиеся дворянам на время службы) в зависимости от существовавших тогда форм собственности на землю.
Многие владельцы старались выкупать поместья в собственность, которые таким образом становились вотчинами. После 1714 года они стали синонимами, так как форма собственности стала одна – недвижимое имение. Это было подтверждено манифестами Анны Иоанновны от 17 марта 1731 года и Екатерины II от 3 мая 1783 года. Отметим, что форма владения нашла отражение и в топонимике некоторых крупных усадеб. Например, усадьба Знаменское-Садки (Московский и Подольский уезды), одно время носила название Знаменская вотчина.
Трансформация усадьбы в пореформенное время привела к тому, что в количество усадебных терминов просто поражает своим обилием по сравнению с предыдущим периодом. Любопытно, что зачастую они встречаются не только в документах одного и того же периода, но даже в пределах одного и того же издания. Так в деловых документах, справочниках, рекламных объявлениях фигурируют
– усадьба владельческая: Архангельское (Волоколамский уезд), Дубронивка (Волоколамский уезд), Литвиново (Богородский уезд), Никольское (Во- локоламский уезд), Панюково (Волоколамский уезд) и др.;
– усадьба частновладельческая : Райки (Богородский уезд);
– усадьба помещичья : Агашкино (Бронницкий уезд), Вышгород (Верейский уезд), Жуково (Бронницкий уезд), Луч-нево (Бронницкий уезд), и др.;
– усадьба землевладельца, имение-дача : Благодать (Звенигородский уезд), Осе-ченки (Покровское) рядом с Быково и у станции Шелковка Московско-Брестской железной дороги (Бронницкий уезд),
– барская усадьба с землею, дом-дворец, охотничий домик (Клинский уезд),
– маленькая усадебка с миниатюрным хозяйством, вилла : Дедово (Клинский уезд), Петровское (Клинский уезд), Черный лебедь (Московский уезд) и др.;
– хутор (Рузский уезд),
– барский дом-дача (Дмитровский уезд) и даже особняк- игрушка , дачи-барские дома (у железнодорожной станции Тучково), дача-барская усадьба (Верейский уезд);
– зимняя дача-особняк.
Однако для обозначения именно подмосковных усадеб в пореформенное время, как и раньше, используется слово «подмосковная» – редкий случай превращения прилагательного в существительное. Ни в одном из других регионов страны, кроме Московского, нет общего названия местных усадеб со сходным происхождением.
Видоизменение традиционного усадебного понятийного аппарата в пореформенное время закономерно, так как именно в тот период усадьба, приобрела новые, не свойственные ей ранее черты, претерпев значительные трансформационные процессы. К тому времени, по мере развития в России капиталистических отношений и слухов о предстоящей крестьянской реформе, масштабы строительства, ведущегося в усадьбах, сократились. По сути, оно свелось к замене или сооружению отдельных построек, дополняющих прежние усадебные комплексы. Гораздо реже, чем раньше, сооружались господские дома.
Самое раннее определение усадьбы, появившееся в дореформенное время, относилось еще к екатерининскому царствованию, одним из итогов которого стало увеличение числа крупных усадебных комплексов по всей стране. Поэтому закономерно, что именно к тому периоду относится самый первый опыт понятийного аппарата.
В Словаре Академии Российской, изданном в начале 1790-х годов, усадьба значится как «дом господской с прочим принадлежащим строением в деревне или селе» [16, стлб. 324], то есть жилье, хозяйственные постройки и прилегающая к ним территория. «Господской», по тому же словарю, это «господину принадлежащий, подвластный» [14, стлб. 273]. А из значений слова «господин» самое оптимальное – неожиданно рифмующееся: «Помещик, барин; также и хозяин» [14, стлб. 273].
Словарь Академии Российской, несомненно, имел в виду только усадьбы в имениях, в которых велась значительная сельскохозяйственная деятельность. Причем эти усадьбы принадлежали дворянам, выступающим в роли господ по отношению к своим крепостным крестьянам. Усадьбы купцов, не занимавшиеся сельским хозяйством, не имеющих права владения крестьянами и значит не являвшихся господами, это определение игнорировало. Кроме того, не упоминалось и то, что в обиходной практике термин «усадьба» зачастую применялся к крестьянским дворам.
Нельзя не отметить, что за крестьянскими дворами с 1839 года этот термин закрепился юридически. Тогда на территориях удельных имений, то есть принадлежавших царствующей династии, было решено устроить образцовые усадьбы на средства местных удельных контор. Цель создания образцовых усадеб – стать примером для ведения сельского хозяйства, улучшения полеводства и быта для крестьян. Поэтому к 1843 году на терри-
L
тории Московской губернии был создан ряд таких образцовых усадеб – Клязьминская, Коломенская, Тайнинская (все Московского уезда).
Лица, управлявшие образцовыми усадьбами, получили образование в Удельном земледельческом училище. Затем они должны были пожизненно хозяйствовать в полученной в аренду образцовой усадьбе и за это выплачивать налоги за ее аренду и денежные сборы по прежнему месту жительства [4].
Видимо, появление образцовых усадеб привело к тому, что изданный в 1847 году Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук, охарактеризовал усадьбу двояко: как «дом со всеми надворными службами» и/или «господский дом с принадлежащими к оному строениями в «деревне или селе» [17, с. 359]. Первая версия термина явно более демократична и могла распространяться на усадьбы владельцев разных сословий, однако она была очень неконкретной. По существу, усадьбой могло быть названо любое здание, предназначавшееся для индивидуального или семейного проживания, так как тогда все они, как правило, имели «надворные службы» в виде кухни, сараев, конюшен и прочего. Другая же версия определения, соответствующая Словарю Российской Академии, была констатацией существования крепостного права.
Поскольку в результате крестьянской реформы владельцы старых усадеб перестали быть господами по отношению к крестьянам, а владельцы новых усадеб не имели такого статуса изначально, определения и из Словаря Академии Российской, и из Словаря церковнославянского и русского языка устарели. Поэтому в пореформенное время возникла потребность охарактеризовать усадьбу по-другому.
«Объяснение различных наименований населенных мест Московской губернии» 1862 года предлагало два варианта усадебных терминов. Это «усадьбы духовного ведомства – по характеру населения сходные с погостами (они не входят в предмет нашего рассмотрения – М. К.), усадьбы сельскохозяйственные и заводские или фабричные» [9, с. ХХVII], то есть находящиеся рядом с предприятиями, принадлежавшими их владельцам. Владельцами предприятий, как правило, были купцы, то есть это была фактически завуалированная форма сословной классификации на дворянские и купеческие усадьбы, активно использующаяся вплоть до настоящего времени.
В 1867 году увидел свет последний том знаменитого Словаря живого великорусского языка В. И. Даля. Он определил усадьбу как «господский дом на селе, со всеми ухожами (то есть угодьями – М. К.), садом и огородом» [2, стлб. 1065]. В. И. Даль произвел этот термин от слова «усада» (в западной транскрипции «усадище» или «усадбище»), что, безусловно, логично. Однако определение В. И. Даля почти не отличается от определений Словаря Академии Российской и Словаря церковнославянского и русского языка. К нему только добавлены «сад и огород». Получается, что оно фактически относится к дореформенному времени, так как явно устарело на момент публикации.
Поскольку по мере развития крестьянской реформы сильно ускорился процесс смены владельцев усадеб, которые стали представлять практически все сословные группы населения, их надо было как-то охарактеризовать каким-то новым термином, тем более, что по отношению к крестьянам они перестали быть господами.
Профессор Санкт-Петербургского университета И. Н. Березин в изданном им в 1878 году Русском энциклопедическом словаре разделил усадьбы по сословному принципу: господские или фермерские и крестьянские, то есть сделал попытку назвать владельцев усадьбы фермерами. По И. Н. Березину, усадьба – «дом с принадлежащими к нему строениями и землею, находящейся под строением, принадлежащий помещику или крестьянину. Во всяком имении усадьбы бывают господские или фермерские и кре- стьянские. Первые состоят из жилых или хозяйственных строений: гумен, садов и огородов, принадлежащих владельцу. Вторые из таких же строений, огородов, коноплянников и крестьянских гумен. Усадьбы обыкновенно помещаются или на берегах рек или оврагов, где можно запрудить пруды» [13, стлб. 110].
Это название не прижилось и не могло прижиться, но важен сам факт попытки его придумать. Недаром примерно с конца XIX – начала ХХ века многие владельцы усадеб предпочитают именовать себя не помещиками, а землевладельцами. Поэтому такие старинные обозначения усадьбы, как «двор помещиков» или «двор вотчинников», в пореформенное время в принципе отошли в прошлое.
Пытаясь придумать новый термин для усадеб, И. Н. Березин образовал его не от слова «фермер» в его американском смысле, а от слова «ферма», которое взял из прошлого, поскольку в некоторых усадьбах в дореформенное время фермами исторически назывались расположенные особняком хозяйства, как правило, работавшие исключительно на рынок: ферма (скотный двор) существовала в усадьбе Кузьминки (Московский уезд), ферма Кагул и садовая ферма находились в усадьбе Троицкое-Кайнарджи (Московский уезд), швейцарская ферма была организована в усадьбе Быково (Бронницкий уезд), усадьба Зенино (Московский уезд) даже имела второе название «Зенина ферма».
Однако в пореформенное время термин «ферма» применительно к усадьбам почти перестал использоваться, так как старые фермы захирели и были ликвидированы, а новые хозяйства фермами не назывались. Это одна из причин, по которой придуманный И. И. Березиным термин «фермерские усадьбы» не прижился. Кроме того, у И. Н. Березина нет различий между помещичьей усадьбой и усадьбой крестьянской, которая состоит из «таких же строений».
Художественное изучение усадеб, возникшее в начале ХХ века, в значительной степени способствовало восприятию усадьбы как по- тенциального объекта культурного наследия, что заставило в последний раз перед Революцией задуматься над терминологическим аппаратом. Определение усадьбы одного из ведущих искусствоведов того периода барона Н. Н. Врангеля слишком лирично и не носит энциклопедический характер: «При слове «усадьба» нам обыкновенно рисуется белоколонный дом екатерининского или александровского времени, тенистый сад, «храмы любви» и «дружбы», мебель карельской березы или красного дерева. Благодаря тому, что все, сохранившееся до нас, редко насчитывает более 100–150 лет, такое представление об русской усадьбе совершенно понятно» [1, с. 9]. Усадьба, исключительно дореформенная, воспринимается Н. Н. Врангелем как образ уходящей красоты. Причем там, где ее нет, то объектом можно пренебречь, так как он не нужен искусствоведу. В этом, как правило, другие специалисты были солидарны с Н. Н. Врангелем. Он выражал общее мнение.
Как в дореформенное, так и в первое пореформенное время синонимом термина «усадьба» зачастую в быту, в письмах, разговорах, личной переписке, художественных произведениях выступает слово «деревня», вне зависимости от реального статуса населенного пункта, в котором конкретная усадьба находилась: деревня, село или сельцо. По сути, это образ, дающий понимание того, что объект находится за городом, по соседству с крестьянскими поселениями. Отмечу, что в пореформенное время статус самостоятельных селенных пунктов – село или сельцо – сохранялся только за старыми усадьбами, возникшими до 1861 года. Новые усадьбы такого статуса не имели. Это объясняется как увеличением количества усадеб, так и уменьшением территорий их угодий по сравнению с предыдущим периодом.
По Словарю Академии Российской слово «деревня» имеет два определения: «… всякое вообще селение, ничем не укрепленное, в котором земледельцы обитают» и «собственно крестьянское селение, в котором нет церкви» [14, стлб. 601]. В отличие от деревни село – это
L
«…селение из крестьян состоящее, от деревни отличающееся тем, что имеет церковь» или «…селение, не огражденное стенами и из земледельцев состоящее» [16, стлб. 410].
В пореформенный период термин «деревня» применительно к усадьбам сохранялся, однако к рубежу XIX–XX веков стал восприниматься как архаичный. Это объясняется, с одной стороны, тем, что в ходе реформы произошло отмежевание старых усадеб от находившихся по соседству крестьянских поселений, включавших в ряде случаев переносы крестьянских изб. Таким образом, граница между усадьбами и соседними населенными пунктами стала гораздо более зримой, чем в дореформенный период. С другой стороны, новые усадьбы, как правило, специально старались сооружать подальше от крестьянских поселений.
Крестьянская реформа 1861 года – процесс раздела имений между владельцами и крестьянами, то есть уменьшение их территорий. В дореформенное время термином «имение» обозначали любое землевладение, независимо от наличия усадьбы и статуса владельца и делили их на населенные и ненаселенные . После 1861 года все имения стали считаться ненаселенными вне зависимости от наличия в них усадеб, так как теперь в их составе не было крестьянских поселений. Даже некоторое время после 1917 года в Подмосковье современники предпочитали называть имениями только те владения с усадьбами, в которых велось сельское хозяйство.
Несмотря на национализацию периода Гражданской войны термин «имение» достаточно долго продолжал использоваться в документах и даже названиях официальных учреждений после ее окончания. Так до 1929 года просуществовало Московское отделение треста народных имений народного комиссариата земледелия Грузинской ССР. Лишь в 1929 году такое название сочли неудобным и учреждение было переименовано в Трест советских хозяйств.
Параллельно с усадьбами, в которых велась крупная сельскохозяйственная де- ятельность, вокруг Москвы, между ними и границами городских выгонных земель, находились небольшие владельческие усадьбы вне крестьянских поселений, обычно без приходских храмов, являвшиеся для своих владельцев исключительно местом летнего отдыха, с сельским хозяйством, носящим декоративный характер и направленным исключительно на поддержание жизни в усадьбе, а не на извлечение прибыли. Как правило, такие усадьбы называли дачами. В частности, именно это делала знаменитая «бабушка» Е. П. Янькова [20, с. 163]. Зачастую термин дача находил отражение в топонимике этих усадеб: Мамонова дача (Васильевское), Бекетова дача у Симонова монастыря, Канат-чикова дача (Худеницы) и другие. Отметим, что среди владельцев этой категории усадеб в XVIII–XIX веках достаточно много купцов. Это объясняется тем, что они не имели права владения крепостными крестьянами, а в составе дач не было крестьянских поселений.
Нельзя не отметить, что «дача» – это очень многозначный термин. Именно поэтому зачастую он используется бездумно. Первоначально это слово обозначало не усадьбу, а участок земли, либо принадлежавший государству, либо полученный дворянином за службу или приобретенный им, то есть данный участок, который дали . Также дачами могли называться отдельные земельные владения, занятые лесом, не имевшие крестьянских поселений в своем составе, по крайней мере, первоначально. С XVIII века дачами стали называть места летнего отдыха и небольшие наемные помещения, сдаваемые на лето, то есть это были дачи наемные.Первыми дачами в этом понимании стали Свиблово (Свирлово) и Леоново (ныне в черте Москвы), нанятые в 1722 году женившимся на дочери Петра I Анне голштинским герцогом Карлом-Фридрихом Гольштейн-Готторпским и его приближенными. Их и можно считать первыми подмосковными “дачниками”.
В свою очередь небольшие пригородные усадьбы для своих владельцев де факто были дачами собственными. С другой стороны, для их владельцев, поскольку далеко не все дворяне имели усадьбы рядом с местами службы, одной из доходных статей оказалась сдача помещений на лето. В частности в начале XIX века усадьба Воронцово (Московский уезд), в которой почти все здания использовались как наемные дачи, по сути превратилась в один из первых подмосковных дачных поселков московской элиты, который действовал до Отечественной войны 1812 года [6, с. 18].
После Отечественной войны вокруг Москвы началось строительство дач как небольших усадеб, предназначенных только для летнего отдыха, на государственных землях и Удельного ведомства, которые можно было арендовать. Сначала это было в Петровском парке и Сокольниках. Немного позже аналогичным образом начали формироваться дачные поселки в Измайлово (Измайловский зверинец) и Царицыне.
Развитие наемных дач, в том числе в усадьбах, было связано и с дальнейшим ростом Московского университета и привлечением в него значительного числа разночинной интеллигенции, которая, как правило, не имела своих усадеб в Подмосковье. Некоторое время наемной дачей Московского университета была усадьба Зюзино (Московский уезд).
Журналист В. С. Межевич в 1843 году отметил, что «Слово дача, в значении летнего загородного жилища, есть, можно сказать, почти исключительный термин Петербурга. Москва усвоила его от северной столицы, и то в недавнее время. Наши провинциальные города пока еще дач не знают» [8, с. 727]. По свидетельству другого очевидца, К. А. Полевого, относящемуся к 1845 году, дачная жизнь уже тогда была достаточно значительной: «До французов иметь дачу казалось недосягаемым блаженством богатства, и того почли бы беспутным мотом, кто вздумал бы завести себе дачу; полагали, что только Шереметевы, Голицыны и подобные им бояре могут иметь загородные дома. Теперь, напротив, учители, чиновники, небогатые купцы – все имеют дачи или нанимают их на лето. Богачи помещаются наряду с ними: не у многих есть свои богатые дачи, да и то большей частью приобретенные случайно; живут все очень скромно, по крайней мере, без всякой пышности и чванства» [11, с. 100].
Важной вехой в развитии подмосковных дачных местностей стало утвержденное Николаем I мнение Государственного Совета 1847 года «О раздаче в окрестностях столиц пустующих земель под устройство дач на сроки до тридцати лет». Землю под эти дачи разрешалось выделять в двадцатипятиверстной зоне вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, наряду со старыми пригородными дачами – усадьбами, занимавшими достаточно крупные территории, появились дачи-усадьбы относительно небольшие, в составе дачных поселков или местностей.
В пореформенное время – благодаря процессу дробления старых владений с усадьбами – усадеб собственных дач вокруг Москвы в Московском уезде стало больше. Среди них Колесниково (ранее часть имения Коньково-Сергиевское), Коробково (ранее часть имения Никольское-Котлы); Михалково разделилось на два объекта – усадьбу Михайлово Йокишей и усадьбу Михалково Грачевых и так далее.
Хотя усадьбы в имениях с сельских хозяйством сохранились, однако бурное развитие общественного транспорта сделало более выгодным превращение многих из них в дачные местности вместо ведения традиционного сельского хозяйства. Ряд родовых усадеб формально дачами не являлись, но по сути в пореформенное время они приобрели характер больших собственных семейных дач для своих владельцев, их родственников и друзей: Кунцево (Московский уезд), Михайловское (Подольский уезд), Узкое (Московский уезд) и другие.
Некоторые дачные места, устроенные в пригородных усадьбах в пределах Московского уезда – Воронцово, Кузьминки, Черемушки-Знаменское и другие – были связаны с городом или ближайшими железнодорожными станциями линеечным сообщением: в них регулярно ходили линейки или
L
омнибусы – запряженные двумя лошадьми экипажи, рассчитанные на 10–14 пассажиров, сидевших на двух скамьях спина к спине. С 1907/1908 годов в Измайловский зверинец, Покровское-Стрешнево и Останкино от московских застав даже ходили частные автобусы, заменившие линейки. Появление регулярного сообщения, способствуя приезду дачников, и их гостей, а также их возвращению в город, свидетельствует о популярности соответствующих дачных мест.
Серьезным фактором развития дачной жизни и превращения усадеб в дачи оказалось строительство железных дорог. Благодаря этому фактору количество дач в усадьбах стало увеличиваться не только в ближайших окрестностях города, но и на окраинах Московского уезда: Кузьминки, Лианозово, Леоново, Немчиновка, Салтыковка, Химки и так далее. Более того дачные местности благодаря железным дорогам возникли даже за пределами Московского уезда: Бутово (Подольский уезд), Быково (Бронницкий уезд), поселок Прозоровский, ныне Кратово (Бронницкий уезд), Фельдмаршальский поселок (Подольский уезд) и другие.
Если в начале пореформенного времени обычно под дачи приспосабливали существующие усадебные постройки, то в конце XIX – начале ХХ века ряд владельцев крупных усадеб, в основном коммерсантов, предпочитали идти по другому пути: оставив усадьбу за собой, использовать под дачи удаленную от нее свободную территорию, то есть образовать отдельные дачные поселки. Например, недалеко от Кускова (Московский уезд) возникла Шереметьевка, рядом с Сухановым (Подольский уезд) поселок Фельдмаршальский, рядом с Никольским-Дарьино (Звенигородский уезд) поселок Новинка, рядом с Большими Вязами Голицынский городок (Звенигородский уезд), кроме дач, сдававшихся непосредственно в Люблине (Московский уезд), западнее усадьбы был основан дачный поселок, получивший название Новый… Одним из наиболее ярких и благоустроенных поселков был поселок Новогиреево при усадьбе Гиреево, в котором были водопровод, канализация и своя конная железная дорога, проложенная от платформы к центру поселка – уникальное явление для дачных поселений того времени [10]. Бурный рост дачных поселков оказался обусловлен и тем, что к тому времени городское строительство перестало поспевать за темпами роста населения Москвы, поэтому в таких местностях появилось круглогодичные дачи, обитателей которых называли «зимниками».
Поскольку в пореформенное время абсолютно все постройки, используемые для летней жизни, даже крестьянские избы, тоже стали называться дачами, то «дача» превратилась в универсальный термин, обозначающий собственное или наемное место летнего отдыха.
Параллельно «даче» иногда использовался термин «мыза» . Однако из этого вовсе не следует, что усадьбы, называвшиеся мызами, принципиально отличались от соседних, мызами не считавшимися. Исторически мызами обычно именовали усадьбы, находившиеся в окрестностях Санкт-Петербурга, а некоторые их владельцы стали также называть свои усадьбы, расположенные в других регионах страны, в том числе в Московской губернии. Среди них, например, Авдотьино или Авдотьинская мыза (Богородский уезд), Раево (Московский уезд), Соболево или Соболевская мыза (Богородский уезд).
Словарь Академии Российской определил мызу как синоним дачи: это «выстроенная дача: загородный дом с садами, пашнею и скотским двором, близ города лежащий» [15, стлб. 350]. Однако это определение верно не для подмосковных усадеб, а для санкт-петербургских, то есть носит региональный оттенок, на чем в словаре не сделано акцента.
Отметим, что в «Объяснении различных наименований населенных мест Московской губернии» 1862 года мыза и дача разведены, хотя на практике означают одно и то же: «Мыза – если она владельческая, то большею частью вблизи одновотчинных селений, или она имеет значение усадьбы при заводе и фа- брике, если принадлежит лицам податным сословий», а дачи «подгородные, собственно подмосковные имеют значение летнего местопребывания владельцев, а встречающиеся в уезде значат почти тоже, что усадьба» [9, с. ХХVII]. За исключением функции жилья владельца фабрики или завода мыза и дача оказались идентичны.
Еще один термин, на котором необходимо остановиться, это «загородный двор». В отличие от Санкт-Петербурга в Москве, благодаря сохранению исторической-радиально-кольцевой планировке в основе своей дошедшей до нашего времени, загородные дворы и пригородные дачи примерно до середины XIX века очень четко различали, так как между ними находилась опоясывающая город территория городского выгона [18, с. 404]. Е. П. Янькова, заставшая екатерининскую эпоху и дожившая до крестьянской реформы, что придает особую значимость ей как очевидцу, отдельно выделяла загородные дворы в окрестностях Москвы, отличая их от дач: «Летом обыкновенно все дворяне живали у себя по именьям, конечно, исключая тех, которые будучи при дворе или по службе, не могли отлучиться из города и потому у многих богатых бар были не дачи, а загородные дворы в отдаленных частях Москвы, вошедших потом в состав города» [20, с. 163]. Однако для князя А. Чарторижского применительно к Санкт-Петербургской губернии оба эти понятия являлись синонимами: «Петербургское общество проводит лето на дачах, в окрестностях Петербурга. Каждый вельможа имеет свой загородный дом и переносит туда всю пышность своей городской жизни» [19, с. 63].
Как видим, для московского региона «загородный двор» первоначально был не синонимом «дачи», а самостоятельным усадебным типом. Типологически такие усадьбы сходны с «дачами», но, в отличие от них, не отнесены на достаточное расстояние от города. Соответственно менее значительно и хозяйство, которое велось в них. Загородные дворы могли занимать достаточно большие терри- тории и даже иметь собственные названия. Например, именно загородными дворами были усадьбы Гороховый двор (ныне район ул. Казакова), Нескучное (ныне район Ленинского проспекта), Студенец или Трехгорное (ныне район ул. Мантулинской).
По мере роста города загородные дворы, расположенные в ближних окрестностях Москвы и опоясывающие кольцом город, оказались включены в городскую черту и если уцелели, то превратились в городские особняки или оказались на новых, зачастую не слишком презентабельных московских окраинах, что способствовало смене хозяев этих владений. Причем исчезновение (или трансформация) загородных дворов в значительной степени произошло еще на глазах Е. П. Яньковой. «Словом сказать, вся Москва была окружена загородными дворцами и подгородними поместьями, а теперь едва ли и двадцатая часть уцелела и находится еще в руках дворян, уж я не говорю, чтобы в руках потомков прежних владельцев, что перешло в казну под разные заведения, что куплено богатым купечеством» [20, с. 163].
Тем не менее еще при жизни Е. П. Янько-вой произошло смешение понятий. Примерно в середине XIX века выражение «загородный двор» стало считаться архаичным и их тоже стали называть дачами. Как сообщал московский бытописатель М. И. Пыляев, рассказывая об усадьбе-даче графини А. Ф. Закревской Студенец (Трехгорное), «слово “загородный дом” тогда состарилось для москвичей, его начали заменять словом “дача”. Вот отчего переименованное “Трехгорное” в “Закрев-ского дачу” стало привлекать всех москвичей в это имение. Граф гостеприимно открыл для всех двери, и все другие загородные гульбища были брошены, опустели» [12, с. 293–294].
В пореформенное время загородные дворы окончательно исчезли как явление. Небольшая их часть, по сути, превратилась в городские особняки.
Еще один термин, на котором нужно остановиться – это «замок». В пореформенное время он приобрел новое звучание.
Раньше так традиционно называли небольшое количество некоторых крупных усадеб: Быково (Бронницкий уезд), Останкино (Московский уезд), Петровское-Дурнево (Звенигородский уезд) и другие. Причем далеко не всегда это название объяснялось наличием элементов крепостной архитектуры. Если господский дом в Быкове имел крупную высокую башню, которую при определенной доле фантазии можно условно считать донжоном, то название замок применительно к Останкино и Петровскому-Дурневу было данью традициям, возникшим по прихоти владельцев.
Однако в пореформенное время возник ряд новых крупных усадеб с большими господскими домами, выстроенными в духе историзма и имеющие стилистическое сходство с западноевропейскими или древнерусскими крепостными сооружениями, например, Васильевское (Рузский уезд), Мысово (Московский уезд), Одинцово-Архангельское (Звенигородский уезд). Сравнение этих построек с феодальными средневековыми замками имело уже несколько ироническое звучание, тем более что владельцами многих таких усадеб были выходцы из предпринимательской среды. Советское искусствознание, как правило, долгое время критически относилось к таким сооружениям, не воспринимая их как объекты наследия.
Более многозначным в пореформенное время стал и термин «дворец». Ранее усадьбы, господские дома которых имели статус дворцов, являлись официальными резиденциями первых лиц правящей династии и их ближайших родственников, имевших великокняжеские титулы или титулы иностранных владельческих домов. Это относилась и к усадьбам, не являвшихся их собственностью.
Так господский дом усадьбы Останкино стал официально именоваться дворцом только после размещения там на неделю резиденции императора Александра II во время коронационных торжеств в 1856 года [7, с. 71]. Для этого дом был реконструирован в стилистике московских и петербургских императорских дворцов: в эстампной галерее разместились комнаты его жены императрицы Марии Александровны, включавшие в себя приемную, гостиную, опочивальню и будуар. Восточная галерея Египетского павильона стала детской. Ротонда, первоначально бывшая открытой, была застеклена и превратилась в императорский кабинет.
В пореформенное время возникла традиция в средствах массовой информации, в исторической и краеведческой литературе, аннотациях на открытках, статьях искусствоведов именовать дворцами любые крупные усадьбы, как правило, имевшие традиционную усадебную композицию (господский дом, который фланкируют два флигеля) вне зависимости от того, были ли они резиденциями лиц, принадлежавших к императорской фамилии или хотя бы имевших титулы.
Некоторые имения с усадьбами, обладавшими большими «образцовыми хозяйствами» – Образцово (Богородский уезд), Осташе-во (Можайский уезд), Поречье (Можайский уезд) и другие – в пореформенное время стали называть экономиями , что явилось принципиально новым для Подмосковья. В дореформенное время так называли только большие хозяйственные имения в южных регионах страны, где обычно не было усадеб, но существовали хозяйственные постройки с домом управляющего и осуществлялся процесс ведения и управления полевыми работами. Термин экономия в значении хозяйственный комплекс , сооруженный владельцами усадьбы для обслуживания нужд всего имения, и после 1861 года сохранил свое прежнее значение.
Автор берет на себя смелость отнести к разряду усадеб пореформенного времени и такой объект, как столыпинские хутора, возникшие в эпоху проведения Столыпинской аграрной реформы, начавшейся в Московской губернии в 1906 году. Жилые постройки ряда столыпинских хуторов не обычные крестьянские избы, а восходят к архитектуре дачных поселков и небольших усадеб. Это говорит об упрощении и нивелировке усадебного быта пореформенной эпохи, ставшим достоянием самых широких кругов.
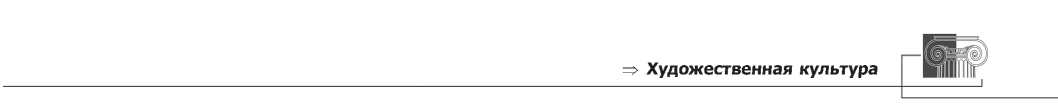
Так на хуторе Ф. А. Лепина при деревне Михалево (Клинский уезд) было сооружено большое деревянное здание с мезонином, опирающимся на колонны. Оно вполне могло бы быть господским домом в небольшой усадьбе.
Несколько проще выглядит жилой дом на хуторе И. Д. Пророкова у села Ельня (Можайский уезд). Тем не менее он вполне сопоставим по масштабу с усадебным флигелем.
На хуторе Отрада С. Д. Грязнова (Рузский уезд) владельческая постройка больше напоминает дачу в составе дачного поселка, чем жилище крестьянина. Кроме того, это здание отличает характерная для стиля модерн асимметрия, что позволяет предположить участие в его строительстве профессионального архитектора или использование типового проекта. Собственно название хутора – Отрада – явно восходит к дореформенным усадебным топонимическим традициям.
Хозяйственные постройки в таких хуторах были идентичны хозяйственным постройкам, сооружаемым в усадьбах представителей других сословий, в том числе и дворянства. Так, ничем не отличаются от хозяйственных построек столыпинских хуторов хозяйственные постройки в усадьбе Бекетовых Шахматово (Клинский уезд), в которой жил поэт А. А. Блок. Хутора явно имели тенденцию к трансформации в новый усадебный тип, но вступление России в Первую мировую войну и последующие за ней Революция и Гражданская война нанесли удар и по ним и их архитектуре. Однако переселение на хутора продолжалось и после 1917 года, вплоть до начала массовой коллективизации, в ходе которой все хутора были уничтожены [3; 5, с. 129–130].
Подводя итоги, нужно отметить, что, несмотря на обилие терминов, в пореформенное время так и не появилось универсального определения усадьбы. Отдельные попытки в этом отношении предпринимались. На наш взгляд они достаточно важны для осмысления усадьбы как многогранного явления. Терминологическая неудача связана как с трансформацией и разнообразием тенденций развития усадьбы, так и с формированием не связанных с друг другом комплексов литературы, относящейся к различным научным специальностям. Усадьба перестала быть объектом изучения исключительно историков и краеведов. Ею стали заниматься искусствоведы, специалисты по сельскому хозяйству, по статистике и другие. Но междисциплинарный подход к теме оказался возможен лишь в наши дни.