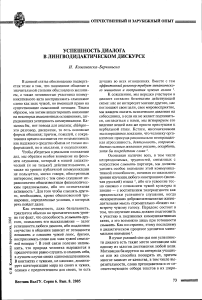Успешность диалога в лингводидактическом дискурсе
Автор: Коженевска-берчинъска И.
Журнал: Artium Magister @artium
Рубрика: Отечественный и зарубежный опыт
Статья в выпуске: 8, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14973824
IDR: 14973824
Текст статьи Успешность диалога в лингводидактическом дискурсе
Чтобы убедиться в реальном положении дел, мы обратим особое внимание на феномен слушания, который в нашей дидактической (и не только!) действительности, а также на уровне публичной коммуникации не пользуется, мягко говоря, обостренным интересом; вместе с тем само слушание неравнозначно общеизвестным физиологическим предпосылкам, ибо это сознательная активность *. Для того чтобы слышать другого, необходимы, кроме обыкновенной тренировки, определенные условия, о которых речь пойдет далее.
Как очевидность, даже банальность, трактуется обычно на прагматическом уров-g не тот факт, что способность услышать дру-^ гого, осмыслить его высказывание — залог g успешности любого диалога, ибо подлинное ^ соучастие в общении зависит от готовности § понимать и слышать чужой голос, другого, а воспринимать слово как знак чужой смысло- te вой позиции 2. В этой связи полезно напом-S нить, что природа человека выражается в § предпочтении равно слушать и слышать себя, 5 в лучшем случае своих единомышленников.
В контактах с чужими, не нашими, домини-рует категоризация мира на своих и чужих, ® однако с предпочтением для своих, то есть © лучших во всех отношениях. Вместе с тем эффективный разговор требует эмпатического мышления и восприятия чужого голоса 3.
К сожалению, мы нередко участвуем в диалоге согласно безотказно действующей схеме: нас не интересует мнение другого, нас поглощают свои цели, свое мировосприятие, мы жаждем оказать психическое давление на собеседника, а если он не желает подчиниться, согласиться с нами, мы игнорируем его видение вещей или же просто приступаем к вербальной атаке. Кстати, многовековыми эксплорациями доказано, что человеку органически присуща рационально неоправданная агрессивность, деятельность, сопровождаемая сильным желанием унизить, оскорбить, хотя бы посредством слова
Осознавая наличие всех, в том числе непреодолимых, трудностей, связанных с искусством ыышать партнера, мы должны уделять особое внимание этой коммуникативной способности, начиная со школьного уровня изучения любого иностранного (включая русский) языка 5, ибо его усвоение тесно связано с познанием чужой культуры и заодно — с воспитанием толерантности как предпосылки успешного слушания, когда «вскормленная» доброжелательностью жизнедеятельная мысль стремительно «бежит» навстречу чужому голосу. Парадокс состоит в том, что изучение языка должно подготовить к участию в. подлинных коммуникативных актах, а это возможно лишь при готовности слышать. Как ни странно, этому последнему в дидактическом процессе уделяется минимальное внимание6.
В пучке условий sine qua non успешности диалога есть также место мотивации как одному из залогов достижения любой цели. Мотивация базируется на интересах учащихся или же способна поощрять их, причем многое зависит от качества, в том числе выразительности, слова преподавателя и от соответствующего отбора текстов в их широ-
Целесообразно задуматься над реальностью нижепредставленных условий: эмпатическое слушание возможно, если мы активно осознаем, интерпретируем и оцениваем чужие значения, для чего необходимо обоюдно реализовать многотрудное взаимопонимание. Это требует от нас интеллектуальной пластичности, отношения к слушанию как к особой игре (нам неизвестно, каким будет результат межкультурного диалога). Если мы одобряем конвенцию игры, то знаем, что предвидятся движения не только вперед, но и назад; мы осознаем также факт, что игра все время повторяется, обновляет самое себя.
Совершенно понятно: для подобного слушания необходима скромность, даже смирение, продиктованная как позицией «благородной неуверенности» в собственной правоте, так и тем обстоятельством, что мы не в состоянии проникнуть безоговорочно в дебри чужого мира идей и эмоций.
Тогда возможна ли позиция в лингводидактическом диалоге, которую Стюарт и Мильт называют диалогическим слушанием?'1 Последнее ведь требует способности сосредоточивать внимание на «нашем», а заодно и отказа от блаженного чувства собственного превосходства 12. Разве легко найти, а потом сосредоточиться на общем для носителей разных культур? И насколько реально создание в процессе словесной игры общих значений? Это отнюдь не теоретические вопросы-сомнения, они актуальны и насущны для всех, кто далек от ксенофобических и этноцентрических позиций или хотя бы стремится к подобному.
К сожалению, в реальности подлинный диалог при изучении языка остается нередко лишь фантомным явлением. Собеседники (в том числе виртуальные) «встречаются» по обе стороны наглухо захлопнутой двери, пребывая наедине со своей «единственно правильной истиной», своим «единственно правильным учением».
Возможно ли одолеть «рифы диалогичности»? Затруднение в удовлетворительном ответе разрешает выразить лишь несколько общих наблюдений:
1. На уровне как теоретических, так и практических решений слишком мало внимания уделяется эмпатическому слушанию как условию sine qua non состоявшегося диалога. Это объясняется фактом, что в нашей культуре любой вид активности принято отождествлять с движением, а подобная исследовательская позиция приводит к интерпретации слушания как воплощенной пассив-
ком понимании как источников информации не только о новом, но и об интересном. Вместе с тем опыт обучения (включая университетское) указывает на распространенность так называемой студенческой позиции: демонстрируя атрибутику пристального слушания, наши подопечные витают в облаках. А при настоящем слушании мыслительные процессы имеют напряженный характер; длительный стресс, возможно, есть одна из причин «витания в облаках», а также того, что запоминается лишь 25 % услышанного7.
Размышляя на тему забываемого в аспекте успешного диалога культур, желательно напомнить рассуждения философов, занимающихся проблемами диалога и согласия. Тем более что и сегодня, и в ушедшем веке постоянной, вечно живой оказывается навязчивость протаскивания «инквизиторами мысли» одной-единственной правды вплоть до ликвидации инакомыслящих и «инакочувству-ющих», а также «инакодействующих». Прогрессирует сильное нежелание слушать — понимать, внимать тому, что нам хотят сообщить другие. Подобные психологически-по-веденческие установки исключают успешность любого диалогического акта; перефразируя Гадамера, скажем: это «неготовность к диалогу», который он называет «самым высоким принципом», хотя бы потому, что «разговор, диалог, публичный дебат составляют фундаментальную основу мыслящего человека»8. Данная рефлексия явно перекликается с мыслью знатока человеческой сущности А. Кемпинского: «Условие жизнеспособности — это контакт с окружающими, ибо без интеллектуального и энергетического метаболизма любая жизнь прекращается»9.
Как же реализовать подобные заветы в свете фактов, что любой язык обладает неистовой, формирующей наш мир силой, что основой нашего мышления являются разные понятия, что мы говорим на разных языках, а наши мировидение и мироощущение предопределены «разным видением действительности, составляющим данную культуру»10 ? Осуществление органической необходимости включаться в диалог, систематически обогащая его, резко осложняется также из-за нашей психической неподготовленности к эмпатическому слушанию, требующему редчайшей способности ставить себя на место другого. Как правило, мы не в состоянии отложить в долгий ящик ни свои взгляды, ни признаваемые «единственно правильные» ценности.
ности. Нетрудно доказать активный характер этого умения, которое составляют: добросовестное и доброжелательное усваивание нового, его категоризация, а кроме того, выделение самого существенного.
-
2. Нередко имеет место межкультурный диалог между носителями одного и того же языка. Сложность такого общения не уступает трудному характеру вербальных контактов носителей двух разных культур. Такое положение вещей лишний раз доказывает главенствующую, решающую функцию слушания, к которому надо готовить начиная со школьного возраста. Тем более что социополитический уровень «диалогичности» в современном мире оставляет желать лучшего.
-
3. Тем не менее диалог в процессе обучения — это прежде всего плод наших благородных желаний и благих намерений; его функционирование имеет несомненно ограниченный характер. Однако в случае, если мы отдаем себе отчет в неимоверной сложности, но и параллельно — в истинной значимости умения слушать — слышать — понимать, возникает шанс найти способы минимализации осложнений.
-
4. Следуя высказанной идее, полезно было бы использовать ту потенциальную силу, которой обладает диалог, не знающий ни пространственных, ни временных границ. Нашим партнером становится здесь запечатленный в текстах голос подлинных гуманитариев, обогащающий нас непреходящими, вневременными идеями. Виртуальный диалог с нами ис-покон веков вели и ведут сегодня крупные мыслители, которые подталкивают нас к раздумьям над сутью человеческой натуры. Не углубляясь в исторические дебри, мы бы напомнили здесь несколько известных имен: М. Бахтин, Г. Гачев, А. Мень, Н.И. Толстой, Д. Лихачев, J. Tischner, R. Kapuscinski, A. Walicki, A. K§piriski, A. Szczypiorki. Их слово обладает незаурядным гуманитарным потенциалом и становится понятным всем заинтересованным, не испытывающим при его восприятии какого-либо культурного барьера. Не занимаясь узко понимаемой дидактикой, они «мимоходом» учат самому главному. Именно они кропотливо создают образец безграничного общения, в котором бережно сохраняется статус настоящего, исполненного уважения, партнерства.
-
5. Разумеется, далеко не все готовы к подобному общению, а успешность диалога в конечном счете зависит от человеческой индивидуальности собеседников. Имеющие ее обладают исключительным благородством,
-
6. В связи с вышесказанным можно, пожалуй, предложить термин диалогическая личность; это субъект, обладающий совокупностью некоторых психически-поведенческих свойств. Главное из них — любовь к человеку, а следовательно, уважение к нему, отсутствие предвзятости, потребность внимательно склоняться к другому с целью лучше слышать его; внимательное отношение к тому, что скажет другой, представляющий «не наши» взгляды. В конечном счете их «диалогическое поведение» равнозначно толерантности, которая, по сути дела, эквивалентна дару общения, лишенного по своей натуре потребности обвинять, порицать, преждевременно оценивать и высмеивать, а также учить все блуждающее человечество уму-разуму.
это архитекторы межкультурного, причем вневременного, пространства доброжелательности. Образно можно сказать, что личности такого масштаба — выпускники школы светил диалога и согласия на уровне Г. Гадамера и др.
Нерешенность названных вопросов — это, пожалуй, основное свойство проблематики диалога как феномена, требующего дальнейшего изучения. Поэтому в заключение мы ограничимся цитированием мысли В. Библера, способной вызвать «море» рас-суждений: «Я не имею права ограничиваться тем, что человеку разрешено быть иным. Я обязан (...) начать внутренний диалог с этой иной культурой, с иным менталитетом. Сказанное обозначает не только толерантность для любого разного, чужого, но и понимание, что без этого иного я не в состоянии быть самим собой»13.
Список литературы Успешность диалога в лингводидактическом дискурсе
- Carol A., Wyatt R. i N.J. Sluchanie i proces retoryczny//Mosty zamiast murow. О komunikowaniu si? mie/dzy ludzmi/Red. J. Steward. Warszawa, 2003. S. 218-234.
- Бахтин М. Диалогическое слово. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
- Aronson E. Cztowiek, istota spoleczna. Warszawa, 2001. S. 138.
- Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур. Минск, 2003.
- Kotakowski L. Mini-wyktady о maxi-sprawach. Krakow, 1997. S. 35-41
- Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности/Ред. В.И. Первухина. Екатеринбург, 2003.
- Gadamer H.-G. Prawda i metoda. Warszawa, 1997.
- Kępinski A. Autoportret cztowieka. Krakow, 1997.
- Steward J., Milt T. Shichanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeri//Mosty zamiast murow... S. 234.
- Bibler V.S. Mysleniejako dialog. Warszawa, 1982. S. 87.