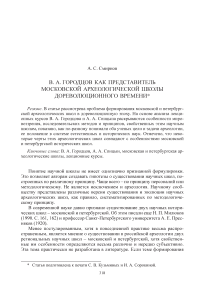В. А. Городцов как представитель московской археологической школы дореволюционного времени
Автор: Смирнов А.С.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Материалы конференции "Ученые и идеи: страницы истории археологического знания"(Москва, 2014 г.)
Статья в выпуске: 240, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена проблема формирования московской и петербургской археологических школ в дореволюционную эпоху. На основе анализа лекционных курсов В.А. Городцова и А.А. Спицына раскрываются особенности мировоззрения, исследовательских методов и принципов, свойственных этим научным школам, показано, как по-разному понимали оба ученых цели и задачи археологии,ее положение в системе естественных и исторических наук. Отмечено, что некоторые черты этих археологических школ совпадают с особенностями московской и петербургской исторических школ
В. а. городцов, а. а. спицын, московская и петербургская археологические школы, лекционные курсы
Короткий адрес: https://sciup.org/14328219
IDR: 14328219
Текст научной статьи В. А. Городцов как представитель московской археологической школы дореволюционного времени
Понятие научной школы не имеет однозначно признанной формулировки. Это позволяет авторам создавать гипотезы о существовании научных школ, построенных по различному принципу. Чаще всего – по принципу персоналий или методологическому. Не является исключением и археология. Научному сообществу представлены различные версии существования и эволюции научных археологических школ, как правило, систематизированных по методологическому принципу.
В современной науке давно признано существование двух научных исторических школ – московской и петербургской. Об этом писали еще Н. П. Милюков (1990. С. 161, 162) и профессор Санкт-Петербургского университета А. Е. Пресняков (1920).
Менее постулированным, хотя в повседневной практике весьма распространенным, является мнение о существовании в российской археологии двух региональных научных школ – московской и петербургской, хотя свойственные им особенности определяются весьма различно и нередко субъективно. Эта тема практически не разработана в литературе. Если теме формирования петербургской археологической школы посвящены единичные работы (Платонова, 2004а), то тема существования московской школы обойдена вниманием исследователей полностью. Интересно, что аналогичная ситуация сложилась и в литературе, посвященной существованию московской и петербургской исторических школ, где петербургской школе посвящено гораздо большее число работ.
В Москве начала ХХ в. наиболее выдающейся фигурой среди археологов, несомненно, был В. А. Городцов, который до 1917 г. сделал большинство научных открытий и сформировал основные положения своей научной доктрины. В эти годы он доказал наличие памятников бронзового века на юге страны, сформулировал гипотезу о ямных, катакомбных и срубных погребениях, впервые использовав принцип культурной стратиграфии, разработал основы типологического метода, создал ряд теоретических трудов, среди которых «Русская доисторическая керамика» ( Городцов , 1901), на многие десятилетия определившая приемы исследования древних сосудов. Именно в эти годы им были заложены основы метода культурной стратиграфии1. «В Москве доисторическая археология – область ведения В. А. Городцова», – утверждал С. А. Жебелёв (1923. С. 190).
Научная деятельность В. А. Городцова в дореволюционное время не раз становилась объектом исследования советских и российских археологов. Ее место в истории отечественной археологии пытались рассматривать как с хронологической ( Лебедев , 1992), так и с методологической ( Платонова , 2010. С. 198–214) точек зрения. Но Городцов был также и ярким представителем сообщества московских археологов, которые при всех индивидуальных особенностях обладали рядом общих черт, отличавших их от плеяды петербургских коллег как в научной, так и в организационной деятельности.
В северной столице фигурой, наиболее близкой В. А. Городцову по своему жизненному пути, некоторым методам исследования, стремлению создать собственную научную школу, был А. А. Спицын. Именно в личностях этих двух выдающихся ученых, ближе всех своих коллег подошедших к современному пониманию археологической науки, сконцентрировались в начале ХХ в. наиболее характерные черты сообществ московских и петербургских ученых-археологов.
Историки науки признают, что источником, наиболее ярко характеризующим особенности любой научной школы, является образовательный контекст, формирующий стиль мышления и образовательную культуру исследователя. Другими словами, учебные курсы. Благодаря свойственной им схематизации и доступности изложения в них наиболее полно раскрываются особенности мировоззрения, исследовательских методов и принципов, свойственных конкретной научной школе. Лектор, выступающий перед слушателями, не связан жесткими правилами научной публикации, требующими досконального изложения фактов и доказательств. Он волен более свободно излагать свое мнение о той или иной проблеме, высказывать близкие его пониманию теории и гипотезы, предлагать свое видение путей развития мировой истории.
Благодаря определенной схематизации и простоте изложения, используемых авторами в лекционных курсах, читателям наиболее полно раскрываются особенности мировоззрения, научных методов и исследовательских принципов, свойственных данной научной школе.
С этой точки зрения наиболее интересным для понимания позиции В. А. Го-родцова представляется курс лекций, который он читал в Московском археологическом институте с 1907 по 1915 г., опубликованный в двух томах общим объемом почти 1000 страниц – «Первобытная археология» и «Бытовая археология» ( Городцов , 1908; 1910). В этих работах В. А. Городцов изложил свои представления об археологической науке, древних памятниках, их классификации, хронологии, методах археологических раскопок, методике применения естественных наук.
При всей специфике такого вида творчества, как лекции для слушателей института, рассчитанные на восприятие дилетантов, следует признать, что В. А. Городцов создал монументальный труд, охватывавший все аспекты археологической науки того времени, что позволило ученому сформулировать свое видение ее фундаментальных положений.
Опубликованные лекции В. А. Городцова получили высокую оценку потомков. Е. И. Крупнов называл их «краеугольным камнем в изучении ранних периодов нашей Родины… Эти работы долгое время оставались у нас сводными археологическими курсами. В них наиболее квалифицированно был подытожен весь опыт изучения российских древностей. Уже эти дореволюционные работы, даже при наличии в них ряда спорных и ныне устаревших положений, безусловно, отмечены печатью яркой талантливости, смелости мысли и оригинальности автора» ( Крупнов , 1956. С. 9, 10). Г. С. Лебедев считал лекции В. А. Городцова «центральным событием “спицынско-городцовского периода” развития отечественной археологии», которые «последовательно и компактно… объединили в себе теоретические аспекты, учебно-справочные, собственно историко-археологические концепции» ( Лебедев , 1992. С. 363). Л. С. Клейн утверждал, «что по своему систематизирующему значению для русской археологии и своему воздействию на нее труд Городцова в какой-то мере напоминает более поздний (1925) и географически более широкоохватный, но и сжатый труд… Гордона Чайлда “У истоков европейской цивилизации”. Для России он был Софус Мюллер, Дешелетт и молодой Чайлд в одном лице» ( Клейн , 2011. С. 652).
Не скованный законами научной публикации, В. А. Городцов в своих лекциях имел возможность излагать доступным языком собственные гипотезы и представления, ярко и образно рисовать картины прошлого, утверждать представлявшиеся ему наиболее правильными способы изучения древних памятников и анализа полученных материалов. Не обязанный аргументированно доказывать своим слушателям те или иные положения, В. А. Городцов стремился в доступной форме убедить их в правомочности своих гипотез, излагая их максимально доступным образом. Эти обстоятельства делают лекционный курс В. А. Городцова удачным информативным ресурсом для анализа его научных взглядов.
В. А. Городцов и его петербургские коллеги по-разному понимали цели и задачи археологии, ее положение в системе естественных и исторических наук.
В. А. Городцов был сторонником уваровского понимания археологии как науки, изучающей «древний быт по всем памятникам, какого бы ни было рода, оставшимся от древней жизни древнего народа» ( Уваров , 1878. С. 21). «Это определение археологии в настоящее время следует считать общепринятым», – констатировал в своих лекциях В. А. Городцов (1908. С. 6). Эта точка зрения определила и принцип его подразделения археологии на первобытную (доисторическую) и историческую. «Предметом первобытной археологии является научное исследование всех древних памятников человеческой культуры до появления о них исторических известий, в форме писаных документов, а также легенд и преданий. Историческая же археология служит прямым продолжением первобытной (доисторической) и имеет дело с памятниками времени писаных документов, легенд и преданий» ( Городцов , 1910. С. 1). При этом историческая археология, согласно взглядам В. А. Городцова, делится на несколько дисциплин, среди которых метрология, археография, нумизматика, геральдика, сфрагистика и ряд других. В этот перечень входит и бытовая археология, которая изучает «памятники домашнего и общественного быта, преимущественно касающиеся жилищ, одежд, пищи, ремесел, художеств, промыслов, а также разного рода бытовых и религиозных обрядов» и «обслуживает не целое, а только часть объема исторической археологии» (Там же. С. 2, 3). Подобной точки зрения В. А. Городцов придерживался и позднее, в 1920-е гг. (1923. С. 7), хотя в то время это выглядело явным анахронизмом.
Его петербургский коллега А. А. Спицын, который читал курс в университете в 1909/1910 гг., понимал под археологией науку, изучавшую древнюю «внешнюю культуру». Это в контексте высказываний ученого можно считать эквивалентом современного понятия «материальная культура», что выводит за пределы археологии основной корпус письменных источников ( Платонова , 2004б. С. 134–149; 2010. С. 102, 103).
Следует заметить, что и А. С. Лаппо-Данилевский, читавший в конце XIX в. лекции по археологии в Санкт-Петербургском археологическом институте, также считал письменные источники достоянием собственно истории, относя к ведению археологии преимущественно «вещественные памятники», материальные остатки прошлого, полученные путем раскопок, критикуя точку зрения А. С. Уварова, столь близкую В. А. Городцову (Цит. по: Там же. С. 116–118).
Одной из главных особенностей лекционного курса В. А. Городцова (1908; 1910) была «всеохватность» изложения как в хронологическом, так и в территориальном смысле. Как справедливо отмечал Г. С. Лебедев (1992. С. 254), московский археолог создал в русской археологии «первую развернутую археологическую версию мирового культурно-исторического процесса».
В. А. Городцов начинал свое повествование не с момента появления человека и даже не с момента появления жизни на Земле, а с образования планеты. Говоря о древней истории ойкумены и истории изучения ее прошлого, Городцов останавливался не только на памятниках Античности и близлежащего варварского мира, Египта и Месопотамии, но и иных мест Европы, а также Африки, Азии и даже Американского континента. И хотя степень детализации процессов, происходивших на этих территориях, различна, подобной широтой изложения не отличались лекции никого из его коллег. Лекционные курсы
-
А. С. Лаппо-Данилевского «Археология Восточно-Европейской равнины (древнейший период)»2, Н. И. Веселовского «Первобытные древности (История Южной России)» и «Первобытный человек. Доисторическая археология» (1901; 1905) в Петербургском археологическом институте и А. А. Спицына в столичном университете3 хронологически и территориально были более локальными.
-
В. А. Городцов старался не только охватить в своих лекциях все периоды древней истории всей ойкумены, но и стремился сформулировать единые законы развития древних человеческих обществ. Его теория существования культурных очагов различного уровня, лучей культурных влияний, распространенная им на всю планету, весьма напоминает характерную для московской исторической школы манеру рисовать крупными мазками широкую картину прошлого, стремление к широким историческим обобщениям.
Еще одной особенностью лекционных курсов Городцова (прежде всего это относится к «Бытовой археологии») являлось внимание к мировоззренческим и философским вопросам – взаимоотношение науки и религии, соотношение патриотизма и исторических фактов. Василий Алексеевич утверждал, что принятие христианства было причиной гегемонии того или иного народа, что «особенно сильно сказалось на германцах и славянах: оно ввело их в круг культурных народов и положило основу их мировой гегемонии». Городцов видел в христианстве не только новое религиозное и этическое учение, способствовавшее прогрессу человечества, но и критерий отнесения народов к определенному хронологическому периоду. Начало «средней поры железных орудий» он связывал не только с широким «введением железа», но и с распространением христианства. Ученый в этом случае отступил от единого принципа выделения археологических эпох и периодов по материалу и характеру изготовления орудий.
Лекции В. А. Городцова изобилуют комплиментарными высказываниями о характере и образе жизни «русских славян» и ссылками на подобные высказывания древних писателей. Трудно представить, что славяне были единственным народом, заслужившим восторженные отзывы хронистов. Но подобных высказываний в отношении соседей славян ученый в своих лекциях не упоминал.
В этих особенностях лекций В. А. Городцова также можно видеть черты московской исторической школы, включавшей в сферу своего внимания не только узконаучные вопросы, но и проблемы нравственно-этического плана.
Петербургские ученые уделяли больше внимания вопросам теории археологической науки и детальной характеристике материальной культуры отдельных групп древнего населения. В первом случае это относится к лекциям Лаппо-Да-нилевского, во втором – Спицына.
По разному В. А. Городцов и А. А. Спицын видели пути использования естественных наук в археологии. Александр Андреевич видел необходимость специализации в исследовании древних памятников, ратуя за совместную работу профессиональных геологов и археологов, которые должны были лишь в конце соединить результаты своих профессиональных исследований для получения окончательных выводов (Цит. по: Платонова, 2010. С. 120). Городцов, скорее, стремился обучить основам геологии собственно археологов, которые должны были сами применять знания, полученные из области естественнонаучных дисциплин. Следует согласиться с тем, что Василий Алексеевич в этих вопросах придерживался консервативной точки зрения, впоследствии отринутой наукой. Концепция ученых северной столицы оказалась ближе современной.
В качестве более мелких отличий в представлениях московских и петербургских ученых можно вспомнить о различной оценке деятельности известного французского исследователя палеолита Луи-Габриэля де Мортилье. Прежде всего речь идет об отношении к его системе периодизации памятников каменного века.
Один из наиболее известных московских профессоров Д. Н. Анучин, признавая заслуги французского коллеги в области разработки периодизации памятников «доисторической археологии», считал предложенную им систему локальной, применимой лишь к древностям Франции, отмечая, что и там она «не пользуется всеобщим признанием» (Цит. по: Там же. С. 150). Городцов целиком и полностью поддерживал точку зрения Анучина, утверждая, что периодизация Мор-тилье является «не только неудовлетворительною для всеобщего пользования, но даже и для Франции» и «это деление, как неверно установленное, почти нигде и никем не было принято» ( Городцов , 1908. С. 170). Он подвергал сомнению справедливость выделения Мортилье наиболее ранней, шельской, эпохи (Там же. С. 158) и отрицал датировку памятников типа солютре эпохой палеолита, которые, по мнению российского ученого, «являются свойственными только неолитической эпохе» (Там же. С. 171). Но впоследствии в обоих случаях Городцов был вынужден признать свои заблуждения (1923. С. 27, 124, 221–228).
Петербургские ученые с гораздо бóльшим доверием относились к периодизации Мортилье. Достаточно вспомнить высказывания Ф. К. Волкова, считавшего, что она основана на «тщательнейшем и полнейшем изучении материала во всей его обширности» и применима для всех памятников каменного века (Цит. по: Платонова , 2010. С. 150). Периодизация Мортилье при всех ее многочисленных изменениях и дополнениях принимается большинством современных археологов. Следует признать, что и в этом случае точка зрения Городцова изначально была ошибочной. Но он нашел в себе мужество в начале 1920-х гг. признать свои заблуждения.
Отличие позиции В. А. Городцова от взглядов его петербургских коллег проявлялось не только в научных вопросах, но и в представлениях об организации археологических исследований в стране. Будучи верным адептом Московского археологического общества и убежденным приверженцем его главы П. С. Уваровой, он всячески сопротивлялся любым устремлениям к централизации управления археологическими работами и контролю со стороны государства.
Городцов, касаясь в своих лекциях вопросов полевой методики, рекомендовал исследователям по возможности проводить раскопки на частновладельческих землях; в этом случае у них будет меньше бюрократических препятствий, так как раскопки «производятся исключительно с разрешения владельцев» (1911. С. 8). Раскопки же «на землях крестьянских, общественных и государственных… производятся только с разрешения Археологической комиссии». Говоря об этом, Городцов делал заявления, вызывающие в наши дни в лучшем случае удивление. «Исследование с разрешения Археологической комиссии вполне доступно только для членов этой комиссии, для лиц же, не причастных к этому учреждению в русской археологической науке, разрешения получаются с крайне стеснительными условиями, требующими, чтобы исследователь непременно представлял к очередному сроку все найденные вещи, всю научную работу, выполненную во время раскопок, в Археологическую комиссию, причем последняя присваивает себе право, по истечении пяти лет, издать научные записки исследователя от себя. Чтобы судить, насколько тяжело все это отражается на деле исследования древних памятников, следует сказать, что многие выдающиеся из русских исследователей прекратили совсем свою деятельность в зависимости от разрешения комиссии, и дело археологических раскопок в России за последние десятки лет заметно приходит в упадок, хотя члены комиссии усиливаются поддержать это дело» (Там же. С. 8, 9).
В подобном отношении В. А. Городцова к действиям Археологической комиссии явно прослеживается позиция Московского археологического общества, глава которого П. С. Уварова на протяжении всей своей деятельности боролась со стремлением ИАК регламентировать археологические раскопки в России и сосредоточить их под своим контролем. Недаром несколькими строками ниже Городцов произносит слова благодарности МАО, «уже много лет стоявшему во главе русского археологического знания» и отличавшемуся «особенной энергией и отзывчивостью» по отношению к исследователям (Там же. С. 9).
Но даже понимая истоки этой позиции, трудно согласиться с мнением Го-родцова, возмущавшегося требованиями направлять в ИАК «всю научную работу, выполненную во время раскопок». Другими словами, представлять научный отчет по результатам проведенных исследований. Московский патриотизм в данном случае явно конфликтовал со справедливыми требованиями ИАК.
Подобной позиции Городцов придерживался даже в советское время. Будучи в первой половине 1920-х гг. руководителем Археологического подотдела Отдела по делам музеев и охране памятников искусства, старины НКП РСФСР, он ратовал за ликвидацию РАИМК и создание обширной системы археологических обществ, хотя и подчиненной единому руководящему органу, в ведении которых находились бы вопросы охраны и использования древних памятников ( Платонова , 2010. С. 212, 213; Кузьминых, Белозёрова , 2012. С. 132–135).
Петербургские коллеги, как и большинство археологов в стране, в целом разделяли позицию Археологической комиссии. Понятно, что взгляды члена ИАК А. А. Спицына на эту проблему полностью соответствовали позиции комиссии, которая была выражена в чеканной формулировке С. А. Жебелёва: «Не только теоретическую, но и практическую разработку всех вопросов, относящихся к археологии в России, нужно сосредоточить в од н о м правительственном уч е н о м учреждении, которое являлось бы высшей и вместе с тем окончательной инстанцией, не только с совещательными, но и с исполнительными функциями» (1923. С. 191).
Представляется, что гипотеза о существовании московской и петербургской археологических школ имеет право на жизнь. Каждая из них обладает характер- ными особенностями, которые пока еще однозначно не структурированы исследователями. При этом некоторые черты этих археологических школ совпадают с особенностями московской и петербургской исторических школ. И это неудивительно, так как археология в XIX в., как мы видели, во многом развивалась в рамках письменной истории, а многие представители археологической науки являлись воспитанниками историко-филологических факультетов Московского и Петербургского университетов.
Список литературы В. А. Городцов как представитель московской археологической школы дореволюционного времени
- Бочкарев В. С., 2001. Периодизация В. А. Городцова в контексте хронологических исследований европейского бронзового века//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация/Ред. Ю. И. Колев и др. Самара: НТЦ. С. 8-10.
- Первобытные древности: (История Южной России). Пособие к лекциям, читанным в С.-Петербургском археологическом институте профессором Веселовским Н. И. СПб.: Лит. Богданова. 1901. 285 с. (Литограф. изд.)
- Первобытный человек. Доисторическая археология. Лекции проф. Н. И. Веселовского/Сост. Н. Соломко. СПб.: Тип. Морск. м-ва. 1905. 93 с. (Литограф. изд.)
- Жебелёв С. А., 1923. Введение в археологию. Ч. 1: История археологического знания. Пг.: Наука и школа. 199 с.
- Городцов В. А., 1901. Русская доисторическая керамика//Труды XI Археологического съезда в Киеве, 1899 г. Т. 1. М. С. 577-672.
- Городцов В. А., 1908. Первобытная археология. Курс лекций, читанный в Московском археологическом институте. М.: Тип. Снегиревой. 416 с.
- Городцов В. А., 1910. Бытовая археология. Курс лекций, читанный в Московском археологическом институте. М.: Тип. Снегиревой. VI + 474 с.
- Городцов В. А., 1911. Руководство для археологических раскопок и обработки добытого раскопками материала. По лекциям, читанным В. А. Городцовым в Московском археологическом институте/Сост. С. И. Флях. М.: Тип. Снегиревой. 64 с.
- Городцов В. А., 1923. Археология. Т. 1: Каменный период. М.; Пг.: Гос. изд-во. 397 с.
- Клейн Л. С., 2011. История археологической мысли: В 2 т. Т. 1. СПб.: С.-Петерб. ун-т. 688 с.
- Крупнов Е. И., 1956. О жизни и научной деятельности В. А. Городцова//СА. Т. XXV. С. 5-12.
- Кузьминых С. В., Белозëрова И. В., 2012. Русская археология на переломе эпох: В. А. Городцов в 1920-е годы//Евразийский археолого-историографический сборник/Отв. ред. А. С. Вдовин, И. В. Тункина. СПб.: СПФ АРАН; Красноярск: КГПУ С. 131-152.
- Лебедев Г. С., 1992. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. СПб.: С.-Петерб. ун-т. 464 с.
- Мелешко Б. В., 2001. Периодизация степной бронзы и становление археологической теории В. А. Городцова//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация/Ред. Ю. И. Колев и др. Самара: НТЦ. С. 18-19.
- Милюков П. Н, 1990. Воспоминания (1859-1917 гг.). Т. 1. М.: Вагриус. 446 с.
- Платонова Н. И., 2004а. Истоки Санкт-Петербургской школы археологии (конец XIX -1 треть ХХ века: Н. П. Кондаков, В. Р Розен, А. А. Спицын, Ф. К. Волков, А. А. Миллер)//Археолог: детектив и мыслитель: Сб. ст., посвящ. 77-летию Л. С. Клейна/Отв. ред. Л. Б. Вишняцкий и др. СПб.: С.-Петерб. ун-т. С. 43-73.
- Платонова Н. И., 2004б. Александр Андреевич Спицын о предмете, задачах и методах археологии//Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы: сборник статей памяти профессора И. В. Дубова/Отв. ред. А. Н. Кирпичников, В. Н. Седых. СПб.: С.-Петерб. ун-т: ИИМК РАН: РЭМ. С. 134-149.
- Платонова Н. И., 2010. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX -первая половина ХХ века. СПб.: Нестор-История. 316 с.
- Пресняков А. Е., 1920. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского государства»//Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства: очерки по истории XIII-XV столетий. Пг.: Девятая гос. тип. С. 459-478.
- Сафонов И. Е, 2001. Раскопки В. А. Городцовым курганов эпохи бронзы в Изюмском уезде летом 1901 г. (по архивным материалам)//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация/Ред. Ю. И. Колев и др. Самара: НТЦ. С. 11-18.
- Тихонов И. Л., 2003. Археология в Санкт-Петербургском университете. Историографические очерки. СПб.: Изд-во СПбГУ 332 с.
- Уваров А. С., 1878. Что должна обнимать программа для преподавания русской археологии, и в каком систематическом порядке должна быть распределена эта программа?//Труды Третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. Т. 1. Киев: В тип. Имп. ун-та Св. Владимира. С. 19-38.