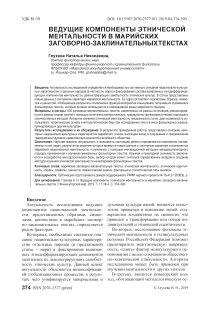Ведущие компоненты этнической ментальности в марийских заговорно-заклинательных текстах
Автор: Глухова Наталья Николаевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность исследования определяется необходимостью системного описания национально-культурных характеристик отдельных народов (в частности, мари) и фиксирования состава выявленных этнодифференцирующих компонентов ментальности, демонстрирующих самобытность этнических культур. В статье представлены новые данные о системном характере марийской ментальности. Ее ядро составляют подсистемы образов, символов и ценностей, обобщающие результаты психических функций восприятия и мышления, получивших отражение в фольклорных текстах, которые активно используются в повседневной жизни марийского социума. Материалы и методы. 600 заговорно-заклинательных текстов, извлеченных из разных источников, рассматриваются в рамках теории систем с помощью сочетания лингвистических, традиционно-фольклористических подходов и количественных методов. Алгоритм изучения этнической ментальности, показанный в статье, дает возможность использовать теоретическую основу и методологическую базу при исследовании текстов иных фольклорных жанров, принадлежащих другим культурам. Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенной работы представлено описание некоторых национально-культурных характеристик марийского этноса, вносящее вклад в сохранение и приумножение традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества. Заключение. Научная новизна, актуальность и значимость настоящей работы определяются комплексом поставленных в ней задач, результатом решения которых являются новые данные о системном характере и компонентах марийской национальной ментальности, полученные с помощью инновационной методики междисциплинарного подхода, примененной к изучению уникальных фольклорных текстов. Научная и прикладная значимость заключается и в разработке методологической базы, выбор которой может считаться определенным вкладом в создание методов изучения этнической ментальности на материале фольклорных текстов.
Марийские заговорно-заклинательные тексты, этническая ментальность, этническая идентичность, образы, символы, ценности, семантический анализ, факторный и статистический типы анализа
Короткий адрес: https://sciup.org/147217935
IDR: 147217935 | УДК: 81:39 | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.04.374-390
Текст научной статьи Ведущие компоненты этнической ментальности в марийских заговорно-заклинательных текстах
Актуальность исследования ведущих компонентов национальной ментальности, представленных образами, символами, ценностями в марийских заговор-но-заклинательных текстах, определяется рядом факторов.
Во-первых, необходимы системное описание национально-культурных характеристик отдельных народов (в предлагаемой статье – мари) и фиксирование выявленных этнодифференцирующих компонентов ментальности, демонстрирующих самобытность этнических культур. Данный аспект актуальности объясняется интенсификацией глобализационных процессов, в результате чего унифицируется материальная и духовная культура наций, меняются психология, привычки и поведение людей, подвергаются воздействию их ценности, что приводит к трансформации или потере индивидуальной и этнической идентичности.
Во-вторых, исследование феномена этнической ментальности в поликультурных регионах Российской Федерации поможет предотвратить межэтническую напряженность, «снять» фактор межкультурного непонимания с целью сохранения общественно-политической стабильности. Алгоритм исследования может быть применен при изучении ментальности и других этносов.
В-третьих, вводится новаторский подход, обогащающий методологическую ос- нову анализа фольклорных текстов любого народа. Заговорно-заклинательные тексты рассматриваются в рамках теории систем с помощью оригинального сочетания качественных (традиционные лингвистические, фольклористические) и количественных методов (математическая статистика, факторный анализ). С их помощью определяются и описываются подсистемы образов, символов и ценностей, которые характеризуют качественные особенности этнической ментальности через систему взглядов, оценок, стереотипов поведения человека, закрепленных в заго-ворно-заклинательных текстах.
Мы предполагаем, что марийские заго-ворно-заклинательные тексты содержат в себе ведущие компоненты национальной ментальности (представляемой в виде системы), в которых сосредоточены результаты способов восприятия и мышления, а также наиболее устойчивые особенности общения и поведения народа, реконструируемые в виде подсистем образов, символов и ценностей. Далее мы попытаемся выявить и описать образы, символы, ценности, ведущие этнодифференцирующие компоненты марийской ментальности на материале марийских заговор-но-заклинательных текстов с учетом их информативности и поэтики.
Для этого нами решаются следующие задачи: 1) предлагается сравнительное описание понятий «этническая ментальность», «этнический менталитет», «этническая идентичность»; 2) в рамках системного подхода с помощью семантического и стилистического типов анализа выявляются ведущие этноопределяющие компоненты-признаки – образы, символы и ценности, составляющие основу этнической ментальности; 3) выявленные образы, символы, ценности классифицируются по частоте использования на основе их ранжирования по результатам анализа особенностей информативности и поэтики текстов.
Обзор литературы
Рассмотрение марийских заговоров и заклинаний в выбранном нами ракурсе (выявление образов, символов, ценностей, представляющих собой ведущие компо- ненты национальной ментальности, на материале заговоров и заклинаний) ранее не предпринималось [ср.: 50; 51; 60; 61]. Данный подход не применялся и к изучению заговорно-заклинательной традиции других этносов [ср.: 30; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59].
Понятие «ментальность» имеет статус аналитического термина и рассматривается рядом таких гуманитарных наук, как психология, философия, история, этнология, лингвистика, социолингвистика, политология, религиоведение и др. Сегодня существует много определений понятия «ментальность», наряду с которым синонимично используется слово «менталитет». В работах, посвященных данному феномену, представляется история появления, развития и изучения связанных с ним идей, условно подразделяемая на три этапа.
На первом этапе, предшествовавшем формулированию проблемы ментальности, сам термин «ментальность» в современном понимании не употреблялся: содержание понятия обозначалось словами «дух народа», «этническое сознание» [13; 35]. Популяризация изучения концепта и его активное применение связываются с появлением и развитием французской исторической школы «Анналов» [8] и условно относится исследователями ко второму этапу эволюции понятия, а также его использования. В рамках этого историографического направления началось проблемное изучение менталитета и ментальности личности, которые, в той или иной степени, описаны и проанализированы в различных российских публикациях [5; 12; 13; 23; 26; 28; 36; 39; 41; 42; 43 и др.]. Отечественные ученые отмечают заслуги таких исследователей, как Л. Февр, Л. Леви-Брюль, М. Блок и др. Определенную роль в развитии идей сыграли ученые, труды которых не относятся к этому направлению: О. Шпенглер, Г. Шпет, Э. Дюркгейм, В. Вундт; А. А. Потебня и др. Следующий, третий, этап, начало которого хронологически относится к 1990м гг., характеризуется активным применением понятия «ментальность» в ряде гуманитарных наук [23; 43]. При этом
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ментальность рассматривается в качестве не только объекта научных изысканий, но и управления [37]. В монографических публикациях и многочисленных статьях обозначаются основные подходы к изучению ментальности, а также приводятся классификации наиболее распространенных и общепринятых определений описываемого понятия. Во всех современных отечественных публикациях единодушно отмечаются наибольшие успехи в разработке проблем ментальности, которые были достигнуты А. Я. Гуревичем и его коллегами – сотрудниками руководимого им центра «Человек в истории». В работах ученого отмечено, что именно необходимо изучать для исследования ментальности; им раскрыты основы ментальности, дано ее определение с позиции исторической психологии; указаны источники изучения ментальности и ряд других значимых идей для раскрытия этого сложного феномена [6; 7; 8; 9].
Для нас ценно представление А. Я. Гуревича о ментальности как о мировиде-нии, в котором сосредоточены важнейшие представления и установки по отношению к разным сферам жизни и деятельности отдельного человека. Эти идеи можно использовать и при разработке проблемы этнической ментальности целого народа.
Нельзя не отметить работы и таких исследователей в области философии, культурологии и психологии, как П. С. Гуревич [10; 11 и др.], А. И. Белкин [2], Г. В. Акопов [1], Н. М. Ракитянский [37], В. А. Шкуратов [49], Р. А. Додонов [12] и др. Еще одним ценным положением может служить высказывание о том, что изучать и постигать ментальность можно через изучение языка [ср.: 3; 17].
К одной из последних публикаций, в которой кратко и емко представлен обзор работ, посвященных исследованию различных сторон проблемы ментальности, можно отнести статью коллектива авторов «Теоретико-методологические основы исследования ментальности и обусловленных ею стереотипов поведения» [44]. В наглядной форме – в виде таблиц – авторы обобщают примеры определений понятия «ментальность» с трех позиций (на- учных направлений, школ, структурных составляющих), кроме того, классифицируют подходы к исследованию ментальности и предлагают таксономию типов ментальности в зависимости от особенностей поведения.
В марийских гуманитарных исследованиях вопросы этногенеза, формирования этнического самосознания и идентичности рассматривались в разное время в историческом, философском, этнографическом, социологическом, культурологическом, педагогическом аспектах. Они получили освещение в работах Г. А. Сепеева, К. И. Козловой, К. Н. Са-нукова, В. С. Соловьева, Т. Б. Никитиной, Т. Л. Молотовой, Г. И. Соловьевой, В. А. Акцорина, И. А. Андреева, А. Г. Иванова, В. Н. Петрова, Н. С. Попова, И. Н. Смирнова, Л. С. Тойдыбековой, В. И. Шабыкова, В. Д. Шарова, А. В. Мас-лихина, Ю. А. Калиева, О. В. Орловой, Г. С. Зеленеевой, С. Н. Федоровой и др.1
Подробный анализ достигнутых результатов в этой области сотрудниками Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (МарНИИЯЛИ) представлен в статье Н. С. Попова «Развитие этнографических исследований в МарНИИ» [33]. Достоинством рецензируемых им работ является аналитическое использование результатов социологических исследований, содержащих вопросы о компонентах национального самосознания, которым посвящены соответствующие отдельные исследования Н. С. Попова [32], Ю. А. Калиева [14; 15], Т. Л. Молотовой [27].
Данные этносоциологических опросов, проводимых в республике в различное время по проблеме изучения этнического самосознания мари, содержат ответы на вопросы о традиционной и современной культуре, языке, истории, религии, национальных чувствах; анализируются и комментируются в аспекте динамики межэтнических отношений в Республике Марий Эл в конце XX – начале XXI в. В. Д. Шаровым, В. И. Шабыковым, О. В. Орловой и некоторыми другими социологами и этнологами МарНИИЯЛИ [45; 46; 48]. В рамках этих опросов выясняются и проблемы этнической самоидентификации молодежи [29], а также межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл [24; 45; 46; 47].
Значимыми факторами, объединяющими людей в единый этнос, мы считаем язык, народные обычаи, историческое прошлое, черты характера и религию. Известно, что внешние условия существования народа (к ним относятся географические, физиолого-антропологические, культурные и бытовые традиции [27]) формируют особые представления, определяющие основу национальной ментальности. Фундаментальные и жизненно важные образы, символы и ценности выражаются в языке. У народов с небольшой письменной традицией (это относится и к марийскому этносу) они «хранятся» в фольклорных источниках. Любой аспект языка, зафиксированный в фольклорном тексте, может стать источником информации о национальной ментальности, ведущие компоненты и ядро которой можно реконструировать из различных жанров фольклора. В качестве такого источника в данной статье мы рассматриваем заговор-но-заклинательные тексты.
Материалы и методы
Решению заявленной проблемы помогает использование инновационного сочетания приемов и методов, примененных в многостороннем анализе информативности и поэтики заговорно-заклинательных текстов и последовательно используемых для реконструкции образов, символов, ценностей в рамках системного подхода (теории систем). Материалом для статьи послужили и результаты использованных приемов и методов, предназначенных как для изучения эмпирического материала, так и для полевых исследований, итогами которых стали дополнительные тексты, записанные в различных районах Республики Марий Эл. Исследование начато с комплексного анализа 600 текстов, заимствованных из различных сборников и ма-териалов2.
Основными общетеоретическими приемами в работе выступают гипотетико-индуктивный метод в рамках системнофункционального подхода. Утверждая, что этническая ментальность представляет собой систему, мы используем системный анализ, который был успешно применен к выявлению гендерных ролей, норм и стереотипов марийской культуры на материале языка, фольклора и литературы.
В большинстве работ по системному анализу под системой предлагается понимать объединение взаимосвязанных и расположенных в определенном порядке элементов или частей какого-либо целостного образования. В нашей работе система – марийская этническая ментальность – состоит из элементов, под которыми подразумеваются отдельный образ, символ, ценность. Система может быть разделена на элементы не сразу, а через подсистемы, т. е. более крупные компоненты, чем элементы, и одновременно более детальные, чем система в целом. Совокупность образов, символов и ценностей составили три отдельные подсистемы ментальности по материалам исследования марийских заговоров и заклинаний. Самые важные взаимодействия между элементами, которые обеспечи вают ее существование, а также
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ наличие основных свойств, отражает иерархическая структура. Иерархия определяет упорядоченность компонентов по степени важности. В нашем случае компоненты-факторы можно ранжировать и представить через диаграммы.
Процесс определения этнодифференцирующих признаков ментальности подразумевает сравнение с эталоном [57] и вынесение оценки в количественном виде [31; 40, 730–731 ]. Ввести эталон для оценки этноопределяющих признаков ментальности трудно, потому что любая культура многогранна, с числом составляющих, не имеющих единиц измерения. Одна из основных наших идей заключается в том, чтобы не вводить специальные эталоны для каждого образа, символа, ценности, а сравнивать их в ранговом порядке, используя только одну единицу измерения – частоту упоминаний в текстах. При этом, чем чаще упоминается какой-то образ, символ, ценность (данные этноопределяющие составляющие ментальности получили еще одно обобщенное название – «фактор»), тем он значимее для этноса. Ранжированные образы, символы и ценности мы затем классифицировали методом последовательной дихотомии по принципу простого большинства в рамках факторного анализа. Выдвигая указанную идею, мы предполагаем, что почти все культуры имеют аналогичные компоненты, например символы, но их относительное значение для каждой культуры разное.
Совокупность образов, символов и ценностей в заговорно-заклинательных текстах составляют три отдельные подсистемы этнодифференцирующих признаков марийской ментальности.
Результаты исследования и их обсуждение
К этноопределяющим чертам ментальности исследователи причисляют способы восприятия и мышления, а также неизменные свойства поведения и общения, которые существуют благодаря принадлежности к конкретному этносу. Оценить все компоненты этнической ментальности невыполнимо в рамках небольшой статьи. Мы предлагаем рассмотреть ведущие и консервативные составляющие, которые возникают вследствие восприятия предметов, объектов и явлений окружающего мира и последующего осмысления результатов указанного процесса.
Этноопределяющие черты ментальности реконструировались на материале заговорно-заклинательных текстов и выявлялись не прямо, а косвенно – через некоторые результаты восприятия и мышления, к которым отнесены образы, символы, ценности, воплощающие в себе сущностную часть прошлого опыта нации.
Восприятие относится к когнитивным процессам и исследуется в рамках различных дисциплин, объектом изучения которых является человек. Существует много определений этого концепта. Нами под восприятием понимается процесс переработки информации, поступающей от внешних и внутренних анализаторов , в результате которого вырабатывается образ, суждение, оценка относительно какого-либо явления или события, обладающие большей целостностью, чем ощущения, и уменьшающие объем информационного потока. Чувственный образ относится к сложным и разноаспектным понятиям, представляя собой первую ступень обобщения информации об окружающей среде, характеризуется целостностью и направлен в подсознание.
Образ может содержать некую художественную идею. В филологических науках художественные образы изучаются стилистикой и литературоведением. Термин «образ» может использоваться в двух значениях – узком и широком понимании. Художественным образом в широком смысле может быть всякая содержательная составляющая произведения искусства, соотнесенная с окружающей реальностью. В этом случае можно говорить об образе эпохи, образе народа, образе того или иного персонажа. В узком смысле слова образом называется выражение, придающее речи красочность, конкретность. Образность в данном контексте создается при помощи тропов, фигур, различных форм инструментовки и ритмико-интонационной орга- низации3. Однако более правильно говорить о наличии различных групп образов: образе языковом, образе литературно-художественном [25, 13] и образе фольклорном.
В рассмотренных текстах образы присутствуют в рамках предметных и ситуативных сравнений, у которых могут быть рассмотрены и особенности морфологической структуры, и значения.
Предметные образные сравнения организованы в большое разнообразие структурных моделей и вводятся послелогами гай ( гае ) ‘как’, семын ( семынак ) ‘подобно’. Самые распространенные модели объединены в четыре группы. Представление составных элементов моделей дает возможность показать, как передается образ. Структурная схема модели 1 выражена именем существительным с послелогом, например: мардеж гай ‘как ветер’; волгенче гай ‘как молния’; пеле-дыш гай [здесь и далее перевод автора. – Н. Г .]. Схема модели 2 передается двумя именами существительными с послелогом, например: яй шоҥ гай ‘как пена масла’; кас тятыра гай ‘подобно вечернему туману’; эр лупс гае ‘как утренняя роса’. Структурная схема модели 3 очерчивается последовательностью имени существительного с послелогом и именем прилагательным / причастием, например: тылзе гай волгыдо ‘яркий, как луна’; пыл гай кушшо ‘растущий, как облако / туча’. Схема модели 4 составлена двумя именами существительными, одно из которых определяется именем прилагательным, с завершающим послелогом, например: Юмын ош пыл гай ‘подобно белому облаку Бога’; Ош Юмын кудыр пыл гай ‘подобно кудрявому облаку светлого Бога’. Семантическая структура позволяет определить образ, поскольку описывает соотношение лексико-семантического содержания того, что сравнивается, и того, с чем сравнивается [25, 27 ].
В рассмотренном материале выявлены три самые распространенные группы образов (в порядке убывания): 1) образы че- ловека (внешность, черты его характера, здоровье) через сравнение с элементами неживой природы, растениями, животными – 38 %; 2) образ состояний человека, в сравнении которых содержится упоминание животного, частей его тела, природного явления, объектов действительности (‘свойство – животное’, ‘эмоциональное / физическое состояние – природное явление’, ‘абстрактное понятие – животное’, ‘животное – объект действительности’) – 36; 3) образы различных объектов действительности, явлений природы (‘ворожба – природное явление’, ‘ворожба – предметы быта’) – 26 %.
Наиболее частотной группой в сравнительных оборотах выступают образы, характеризующие человека. Например: Тиде е‰ын уло могыржо, шӱм-мокшыжо, кид-ше-йолжо, кап-кылже пеледыш гай пелед-ше, пыл гай оварыше!4 ‘Пусть, как цветок, расцветает, пусть, как туча, поднимается тело этого человека, его сердце. Его руки-ноги, весь его организм!’; 77 тӱрлӧ ур, 77 тӱрлӧ мера‰, 77 тӱрлӧ рывыж кузе млан-де валне модын коштыт, тыгак тиде е‰ын ур гай, мера‰ гай, рывыж гай уло могыржо, шӱмжӧ-мокшыжо, кидше-йол-жо, уло лулегыже тугакак йӱд-кече модын шогыжо! 5 ‘Как 77 разных белок, 77 разных зайцев, 77 разных лисиц по земле ходят, играючи, пусть так же и этого человека душа, сердце, руки-ноги, весь организм день и ночь играют!’.
Образ предметного сравнения основывается на сопоставлении отдельных явлений, представленных в текстах именами существительными. В связи с этим выявляются типы семантической структуры образа, из которых часто встречаются следующие: ‘человек – элемент неживой природы’, ‘человек – вещество’, ‘человек – растение’, ‘человек – свойство’, ‘человек – животное’ (сравнение, где какая-то характерная черта человека подчеркивается сопоставлением с животным по внешним признакам), ‘элемент неживой природы – человек’.
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Еще одной немаловажной чертой компонентов предметного сравнения, лежащего в основе формирования образа наряду с созданием экспрессивности текстов, может быть названа способность образования лексико-семантических групп, указывающих на явления природы, внешность и состояние здоровья человека, отличительные черты быта и виды хозяйственной деятельности. Их дальнейшее обобщение ведет к определению системы ценностей, заложенной в заговорно-за-клинательных текстах.
Другой тип сравнений – ситуативные – создают не только особенные образы, но и формируют своеобразный ‘каркас’ композиции текстов заговоров. Название говорит о том, что они создают не просто образ, а образ ситуации. Они формируются посредством лексем кузе ‘как’ и туге / тугак ‘так’, вводящих в контекст соответственно главное и придаточное предложения. Например: Шокшо вӱд кузе йукша, туге тудо (лӱм) деч тудо (лӱм) йукшыжо! 6 ‘Как остывает горячая вода, так же пусть и он к ней остывает!’.
Связь образа ситуативного сравнения с образом предметного осуществляется через предметный характер первого. Это происходит от того, что в большинстве исследованных примеров глагол-сказуемое придаточной части является семантически зависимым членом конструкции, будучи связанным с глаголом-сказуемым главного предложения. В изученных текстах наблюдается повтор глагола в придаточной и главной частях сложного предложения.
Анализ имеющегося материала отразил тот факт, что ситуативное сравнение воссоздает окружающую действительность особым образом. Характеристики, присущие данному виду сравнения, не совпадают с определяющими чертами предметного сравнения. Следует отметить, что в текстовых примерах при наличии идентичных или синонимичных глаголов модели смысловой компонент образа формируется субстантивными составляющими. Когда в сложном предложении присутствуют два несходных глагола, ситуативный характер сравнения и образ ситуации выражены значительно четче. Еще одной чертой ситуативных образных сравнений является способность передачи ирреальной модальности. В рассмотренном материале преобладают образы ситуаций, основанных на вымышленных, гиперболизировано-фан-тастических событиях, явлениях и отношениях.
Сложный процесс перехода образа в символ до сих пор не имеет однозначного ответа в филологических исследованиях [19]7. В работе А. Ф. Лосева наряду с авторской интерпретацией образа, знака и символа проанализированы различные теории символа. Здесь ученый подробно рассматривает работы исследователей Тартуской школы, в частности Ю. М. Лотмана, который занимался и проблемами разграничения знака и символа [18, 201–246 ].
Можно предположить, что процесс трансформации образа в символ подчиняется закону перехода количественных изменений в качественные. Появляется необходимость отграничения образа от символа. Вариантом разрешения этого вопроса может послужить использование факторного анализа в рамках системного подхода. Наряду с семантическими приемами исследованный материал ранжируется по частотным группам приемом последовательной дихотомии по принципу простого большинства. Данный прием показывает, что символами становится группа доминирующих образов на основании многократного их применения в текстах. Подтверждением подобного умозаключения является следующее предположение: образ имеет большую вероятность превратиться в символ, чем он чаще используется в текстах. В таком случае может быть достигнуто главное свойство символа – его многозначность.
Еще одним качеством символа, по мнению Лотмана, может служить его роль посредника между синхронией текста и памятью культуры, так как он обладает архаической природой, относясь к одному из наиболее стабильных элементов культурного пространства [21; 22]. При этом стержень этнических символов сформирован группой простых неизменных символов, в которых соединяются разрозненные временные слои памяти культуры о себе [20].
Анализируя символы фольклорных жанров, исследователи устного народного творчества финно-угорских народов пользуются выводами и результатами работ ученых, изучавших фольклор славянских народов [38]. Например, в исследованиях А. Н. Веселовского и А. А. Потебни предложены объяснения поэтики символического образа, психологического параллелизма; представлены интерпретации психологического характера народных символов [4, 107–117 ; 34].
В филологических науках символ относится к тропам, так как в его лингвистической основе лежит переносное значение, понимание и интерпретация которого требуют конкретного контекста.
Многочисленные исследования на материале различных языков показали, что значение символа органично связано с его образной структурой. Символ полисемичен, более абстрактен, чем образ, и может быть представлен одной лексемой (например, названием птицы, числом, обозначением природного явления и т. п.). Выявление в марийских заговор-но-заклинательных текстах подсистемы символов, объединяющих в себе эмоции и чувства человека, делает возможным описание характерных черт восприятия окружающего мира с помощью чувств, а также его оценку внешней среды и собственного ‘внутреннего’ состояния.
В проанализированном массиве текстов преимущественно присутствуют заговоры, направленные на защиту, лечение человека или животных, изменение отношений между людьми. Слово с символическим значением устанавливается с помощью разбора предметных и ситуа-
PHILOLOGY тивных сравнений, определением первого члена психологического параллелизма при прочтении заговорно-заклинатель-ных текстов. Выявлению символа способствует и анализ постепенного сужения образа, который может сочетаться с перечисленными выше приемами.
Далее эти стадии сопровождаются семантическим (компонентным и контекстологическим) анализом содержания лексем, обладающих символическим значением. Сочетание компонентного и контекстного видов анализа заговоров дает возможность выявить отдельные слова-символы, описывающие концепт «пространство», который широко распространен в изученных текстах. Факторно-статистический анализ позволил распределить лексемы пространства на четыре группы символов. Доминирующая группа объединила в себе 55,7 % от рассмотренного количества встречающихся слов. Преобладающее большинство первой группы символов позволяет обратить внимание именно на эту подсистему. Наиболее распространенные символы в проанализированных текстах относятся к четырем видам пространства, а именно: 1) вода (естественные водные объекты, водохранилища); 2) дом (жилье, изба, крыша, жилище, усадьба); 3) местность (сторона, земля); 4) небо (небосвод, небосклон). Как было указано выше, многозначность символа позволяет на фоне обозначаемого широкого понятия объединить еще и ряд вспомогательных значений. Например, «местность» может репрезентироваться лексемами «луг», «поле», «место» и т. п.
Главным значением символа «вода», встречающегося в заговорно-заклина-тельных текстах, оказывается освобождение от болезней, злых чар, «сглаза». Так, вода, по контексту заговорных формул, может приносить облегчение при некоторых эмоциональных состояниях, избавлять от ряда болезней, препятствовать действиям, наносящим вред, врачевать раны.
В предлагаемом предложении из заговора вода является препятствием для действий колдуна. Например: …Вӱд ӱмбалне
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 77 тӱрлӧ кайкым чоҥештен кайыдымым ыштен кертеш гын, тунам иже юзо-еретник (тиде еҥым) пошарен керт-ше, тетла ынже керт! 8 ‘…Только тогда пусть колдун-еретник сможет наслать на этого человека (имя) порчу, когда он сможет прекратить полет (букв.: сделать нелетающими) 77 птиц, пролетающих над водой. До этого пусть не сможет!’.
Вода морей служит препятствием на пути болезней, насылаемых на человека или животных, как это видно по заговору против чесотки. Например: Шем (ош, йошкарге, ужарге) теҥыз кунам йӱлен котыр лийын кертеш, тунам иже (лӱм) йӱлен котыр лийын кертше 9‘Только тогда пусть (имя) заразится зудящей чесоткой, когда зудящая чесотка может поразить черное [белое, красное, зеленое] море’.
Во всех заговорах, противодействующих нанесению колдовства, появлению болезней, есть заключительные предложения, которые содержат пожелание исчезновения болезни или уже причиненного зла. Например: Эр лупс кузе шулен кая, осалже туге пытыже . Эр покшым кузе шулен кая, осалже туге шулен кай-ыже. Вӱд шо‰ кузе шулен кая, осалже туге шулен кайыже 10 ‘Как исчезает роса утром, так же пусть и колдовство исчезает. Как расходится туман утром, так же пусть и колдовство, растворяясь, уходит. Как растворяется пена воды, так же пусть и колдовство, исчезая, уходит’.
Воде приписывается значение своеобразного проводника как планируемых, так и нежелательных действий, приводящих к достижению определенных, не всегда благих целей.
Примыкает к этому контексту и описание ситуаций, когда в воде обитают существа, характеризующиеся умением наносить вред человеку, олицетворяющие опасность для его здоровья и жизни. В изученном материале встречаются заговоры, в которых духи разных болезней, в частности, ревматизма, могут водиться в воде, на земле, в воздухе.
На втором месте по распространенности является символ «дом». Он также многозначен. Контекст заговорно-закли-нательных текстов позволил определить ряд дополнительных значений символа, которые можно объединить в отдельную лексико-семантическую группу. В нее входят пӧрт «дом, изба, хата», сурт-пече «дом с постройками», сурт «жилище с надворными постройками, хозяйство». Так, в заговоре против «очищения» жилища от разных болезней ( Пуртымо черым ойырымо ) символ «жилище» включает и слова пӧрт , и сурт-пече . Например: … тунам иже керемет, шырт, водыж, мыйын суртышкем-печышкем, пцртыш-кем пурен кертше, тулеч ончыч ынже керт! [10, 77 ] . ‘…только тогда пусть ко мне в мой дом, мою усадьбу (букв.: дом с постройками) сможет зайти злой дух, во-дыж [низшее божество], вредный дух, до этого пусть не сможет!’.
Будучи закрытым и огороженным жилой дом, вне сомнений, воспринимается и почитается всеми безопасной и неуязвимой частью пространства для тех, кто находится под его крышей. Например: Юмын шӱдырым осал тушман кунам ик минутышто кормыжтен шынден кертеш гын, тунам иже осал тушман пӧр тыш кы жӧ-сур тыш кы жо осалым пуртен кертше, тылеч ончыч осалым пуртен ынже керт! Тылеч ончыч осал тушманым пӧртыш кы жӧ-суртышкыжо пуртен ышже керт! 11 ‘Только тогда пусть злой враг сможет впустить в дом несчастье, злое начало, когда он за одну минуту сможет зажать в своей ладони звезду Бога! До этого пусть колдун-еретник не сможет впустить зло в дом!’
В ряде заговоров встречаются ситуации, в которых изображено единение жилого пространства и неба. В подобных текстах показано взаимодействие среднего мира, мира человека, с космосом, населенным пантеоном высших богов и духов, к которым и обращается человек, прибегающий к их помощи посредством текстов заговоров. Интересно отметить, что в некоторых текстах присутствуют обращения к Христу и его матери, святому Николаю и др. (Кугу Юмо, Миколо Юмо, Кристос Кугу Юмо, Кристос Кугу Юмын Аваже, Кава Юмо, Мер Юмо, Волгенче Юмо, Кӱдырчӧ Юмо Мланде юмо, Сандалык юмо, Юмо Пӱрышӧ ‘Великий Бог (Всевышний), Николай Угодник, Великий Бог Христос, мать великого бога Христа, Бог Неба, Бог Вселенной, Бог Молнии, Бог грома, Бог земли; Бог-предопределитель’12.
Пространственный символ «земля» является следующим, третьим по частотности использования в текстах. Например: Мланде разым кунам мланде тӱрым (кӱ курыкым) тодын луктын кочкын кертеш, тунам иже (тудым) кертше. Тьфу! 13 ‘Когда злой дух земли сможет достать и съесть горизонт (букв.: вынуть из земли каменную гору и съесть ее), только тогда пусть сможет причинить ему боль. Тьфу!’.
Семантика символа разнообразна. Это и какие-то ‘далекие страны’, и ‘отдаленные места’, связанные с придумываемыми действиями злых духов, низших божеств, колдуна, созданные воображением. Воображение составителей текстов наполняет содержание заговоров цепочкой «деяний», невероятных для осуществления злонамеренных планов. Контекст заговоров показывает еще одно значение символа – «жизнь». В текстах, направленных против колдовства (например, Ӱмырым налме-шӧрымӧ ‘Против заговора «на смерть»’), наряду с перечислением ряда нереальных действий колдуна, встречается и такое предложение: Кунам юзо-еретник мланде ӱмырым налын кер-теш, тунам иже тиде енгын ӱмырым на-лын кертше 14. ‘Только тогда колдун-ерет-ник пусть сможет этого человека лишить жизни, когда он сможет лишить жизни землю’.
Завершает список главной группы символ «небо», который занимает чет- вертое место в иерархии доминирующих видов пространства с символическим значением.
Контекст проанализированных заговоров показывает два ведущих значения символа – далекое, недоступное, недосягаемое, безопасное пространство, служащее препятствием для осуществления колдовства; обиталище богов и высших существ, на которых возлагается надежда на помощь. Небо ассоциируется с поддержкой и помощью знахаря в поединке со злом и людьми, насылающими его. Посредничество осуществляется непосредственными призывами к небу, солнцу, луне, звездам; помощь ожидается прошением о взаимосвязи действий неба с землей. В приводимом ниже отрывке из текста, направленного на устранение колдовства, небеса выступают серьезным барьером для реализации дополнительных нереальных действий: Ик час-минут коклаште шӧртньӧ тош-калтышым шогалтен, ош кавашке шу-мешке, кавам почын пурен… тунам иже тудо пытарен кертше! 15 ‘Когда, через один час, одну минуту, поставив золотую лестницу, добравшись до светлых небес, сможет взойти на небо… только тогда пусть он сможет лишить жизни!’.
Отрывок из текста «От укуса ядовитой змеи» содержит символическую ситуацию с лексемой «небо»: Шымлу шым тӱрлӧ мардежым, шымлу шым тӱрлӧ южым, шымлу шым тӱрлӧ лупсым, шым-лу шым тӱрлӧ кавам кунам чӱ‰гал кер-теш, тунам веле мыйым аяран пӱйжӧ дене чӱ‰галже. Тылеч ончыч ынже керт! 16 ‘Пусть только тогда змея сможет ужалить меня своими ядовитыми зубами, когда она сможет ужалить 77 разных ветров, 77 разных воздухов, 77 разных ине-ев, 77 разных небесных сводов. До этого пусть она не сможет!’.
Следующим значимым компонентом ментальности и идентичности по праву считают «ценность». К ней относят по-
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ложительную значимость объектов реального мира для личности и социума в целом. В данное понятие включаются критерии и методы оценки значимости, представленные в моральных принципах и нравственных нормах. Для человека ценности являются объектом его интересов, а для его сознания служат ежедневными ориентирами в материальном мире и социальной действительности. К ценностям относят понятия добра и зла, справедливости и несправедливости, идеалы, моральные нормативы и принципы17.
В рассмотренных текстах этнические ценности отражают представления народа практически обо всех важных сторонах повседневной жизни. Чем значимее для жизни народа какая-либо ценность, тем чаще она используется в рассмотренных текстах. Наблюдается интересная закономерность: ценности, которые необходимо заполучить, трансформируются в цели. Другими словами, цель – это ценность, осознаваемая как желательный намечаемый результат запланированной деятельности.
Для выявления системы ценностей содержание имеющихся в распоряжении заговорно-заклинательных текстов было проанализировано с помощью компонентного и контекстологического анализа. Результаты семантического подхода к исследованным текстам указывают на предметно-логический, т. е. содержатель-но-фактуальный тип информации, который выявляет многочисленные устремления людей.
Были определены следующие аспекты жизни первостепенной важности, представляющие основные ценности для человека, перечисляемые в порядке убывания значимости.
-
1. Крепкое здоровье, которое помогает осуществлять разнообразные виды хозяйственной деятельности, способствующие полноценной жизни.
-
2. Дружеские, гармоничные отношения в семье, среди близких и дальних родственников, соседей.
17 См.: Дробницкий О. Г. Ценность //Философская энциклопедия. 1970. Т. 5. С. 462.
384 Финно–угорский мир. Том 11, № 4. 2019
-
3. Здоровье домашних животных, их регулярный приплод.
-
4. Стабильный урожай выращенной продукции и успешная и прибыльная продажа ее на рынке.
-
5. Удачная охота и рыбная ловля, изобилие добычи в виде диких животных, промысловых птиц и рыб.
-
6. Оберегание и защита каждого человека от дурного глаза и разных видов «порчи».
-
7. Обеспечение безопасности домашних животных (защита от «сглаза» и «порчи»).
-
8. Устранение результатов нанесенных неприятностей безадресными злыми силами и обезвреживание «порчи» у конкретного человека или животного.
Ценности, содержащиеся в заговорно-заклинательных текстах, связаны с межличностными отношениями, работой по хозяйству, охотой, рыболовством, уходом за животными. Заговор, по мнению использующих его людей, считается сильным средством в разрешении сложных межличностных отношений, устранения разногласий. Главными ценностными ориентирами социума в проанализированных текстах являются здоровье, профилактика болезней, взаимоотношения полов.
Заключение
Проведенный комплексный анализ 600 марийских заговорно-заклинатель-ных текстов позволил определить три подсистемы этнической культуры мари, в которых отражены результаты восприятия и осмысления окружающей действительности, т. е. ведущие компоненты ментальности.
В рассмотренном материале определены три доминирующие группы образов и показаны самые распространенные типы их семантической структуры. Первое место занимают образы человека – его внешний облик, качества характера (38 %). Следующая по частотности группа образов эмоционального или физического состояния личности (36 %). Третья наиболее распространенная группа – образы предметов окружающей действи- тельности и природных явлений природы (26 %).
Анализируя подсистемы образов в текстах, можно прийти к выводу о том, что обобщенная классификация образов основана на характере сравнения и включает следующие типы: 1) образы в сравнениях, построенных на видимых чертах или внешнем сходстве, разделяемых сравниваемыми предметам и объектами; 2) образы в сравнениях, объединенных единой функциональной установкой и совпадающими функциями, типичными для сравниваемых объектов.
Следующий этап обобщения информации об окружающей обстановке способствует образованию этнических символов. Кроме обозначений людей в группе символов преобладают лексемы, которые в ряде контекстов заговоров получают статус культурологических концептов. Подсистема доминирующих символов в изученном материале включает обозначения пространственных типов. 18 видов пространства распределены по четырем группам, главная из которых составляет более 55 % от общего количества использования наименований: 1) вода (водоемы и их части); 2) жилище (дом с надворными постройками); 3) земля (различные типы рельефа местности); 4) небо (небосклон, небосвод). Наименования географических объектов различного происхождения и рельефа местности обладают обобщенным символическим значением, характеризуя мифологическое мышление этноса. В отличие от жанра народных песен, марийские заговорные тексты содержат другие группы символов, которые значительно дополняют описанную этническую символику. Подсистема символов, запечатленная в данном фольклорном жанре в выявленном сочетании, хранится в коллективной памяти народа, составляя важный аспект этнической ментальности и идентичности. Символы, содержащиеся в заговорно-заклинательных текстах, представляют собой сконцентрированное выражение коллективного бессознательного в виде оригинального перечня архетипов.
Следующей подсистемой триады культуры была определена ценностная парадигма. Результаты компонентного анализа в исследованных текстах передают предметно-логический (содержатель-но-фактуальный) тип информации. Он убедительно показывает, что многочисленные устремления людей концентрируются на 8 видах ценностей, главными из которых являются здоровье, гармоничные отношения в семье, здоровье домашних животных и изобилие диких зверей в природе, а также защита и предохранение человека и животных от различных видов «порчи». Проанализированный фольклорный жанр показал то состояние этноса, при котором жизненный цикл повторялся из поколения в поколение без существенных изменений, находясь в относительном равновесии с природой и другими этносами, т. е. состояние этнического гомеостаза.
Проанализированные нами подсистемы образов, символов и ценностей образуют замкнутую систему-триаду марийской культуры, элементы которой логически взаимосвязаны. Образы являются первым результатом осмысления действительности и формируются не только на основании сигналов от анализаторов, органов чувств, но и под влиянием этнической системы ценностей. Дальнейшее обобщение информации об окружающем мире приводит к формированию этнических символов. Часть из них, самая главная, оценивается и выделяется из остальных символов и на этом основании заносится в этническое сознание в виде ценностей. Ценности, сформированные таким образом, служат эталоном при формировании новых образов и символов. Описанный цикл многократно повторяется в течение веков, непрерывно изменяя и совершенствуя этническую культуру. Благодаря этому постоянно возобновляющемуся процессу обеспечивается сохранение этнического менталитета и идентичности, и культура нации остается живой.
Реконструированные подсистемы в полученном виде не имеют аналогов в известных описанных культурах мира.
Список литературы Ведущие компоненты этнической ментальности в марийских заговорно-заклинательных текстах
- Акопов Г. В. Сознание и время: апология ментальности и поэтического сознания. 2-е изд., испр. и доп. Самара: ВЕК#21, 2013. 175 с.
- Белкин А. И. Психологические исследования феномена ментальности // Актуальные проблемы психологии личности: сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2011. № 5. URL: https://sibac.info/conf/psych/v/35874 (дата обращения: 11.08.2019).
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва, 1997. 416 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Ленинград: Гослитиздат, 1940. 647 с.
- Горбенко А. Ю., Демкина Е. В. Генезис и сущность понятий "ментальность", "социальная ментальность" // Вестник АГУ. 2015. Вып. 4 (169). С. 15-22.
- Гуревич А. Я. Ментальность // 50/50. Опыт словаря нового мышления. Москва: Прогресс-Пайо, 1989. С. 454-456.
- Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Москва: Наука, 1989. Вып. 1. С. 75-89.
- Гуревич А. Я. Школа "Анналов" и проблема исторического синтеза. Москва: Индрик, 1993. 328 с.
- Гуревич А., Вовель М., Рожанский М. Ментальность // 50/50. Опыт словаря нового мышления. Москва: Прогресс-Пайо, 1989. С. 456-463.
- Гуревич П. С. Философия культуры. Москва: Аспект-Пресс, 1994. 315 с.
- Гуревич П. С. Человек. Москва: Дрофа, 1995. 336 с.
- Додонов Р. А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования. Запорожье: Тандем-У, 1998. 191 с.
- История ментальностей. Историческая антропология: зарубеж. исслед. в обзорах и рефератах. Москва: РГГУ, 1996. 255 с.
- Калиев Ю. А. Мифологическое сознание мари: Феноменология традиционного мировосприятия / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2003. 216 с.
- Калиев Ю. А. Этнокультурный статус мифологического сознания: генезис, функционирование и эволюция традиционного мировосприятия (на примере марийской мифологии). Уфа: РИО БашГу, 2004. 326 с.
- Конончук Д. В. Проблемы исторической антропологии и символическая концепция ментальности // Россия и АТР. 2004. № 1 (43). С. 99-110.
- Корнилов О. Языковые картины мира как производные менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: ЧеРо, 2003. 349 с.
- Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 480 с.
- Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. Москва: Политиздат, 1991. 524 с.
- Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 191-199.
- Лотман Ю. М. Между эмблемой и символом // Лотмановский сборник. Москва: Гнозис, 1997. Т. 2. С. 268-273.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. Москва: Прогресс Гнозис, 1992. 272 с.
- Магомедова Э. А., Юсупов Ю. Г. Проблема ментальности в гуманитарном знании: основные подходы // Юг России: экология, развитие. 2011. № 1. C. 25-30.
- Маслихин А. В., Гаврилов Н. Н., Маслихин В. Д. Диалектика общего и особенного развития марийского народа в условиях многонационального общества: монография / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2002. 200 с.
- Мезенин С. М. Образные средства языка (на материале произведений Шекспира). Москва: МГПИ, 1984. 100 с.
- Менталитет: широкий и узкий план рассмотрения: сб. науч. тр. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1994. 127 с.
- Молотова Т. Л. Этнический характер марийцев и природно-географические факторы // Этнологические проблемы в поликультурном обществе. Йошкар-Ола: Йошкар-Олин. кн. изд-во, 2000. С. 181-191.
- Немирович-Данченко П. М. К вопросу о методах изучения ментальности // Вестник Томского государственного университета. 2008. История. № 1 (2). С. 88-98.
- Орлова О. В. Социологический аспект социальных изменений молодежи // Молодежь Республики Марий Эл (по материалам социологических исследований) / МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева. Йошкар-Ола, 2008. Вып. 3. С. 17-38.
- Панина Т. И. Слово и ритуал в народной медицине удмуртов: монография / УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 2014. 240 с.
- Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. Математическая лингвистика. Москва: Высш. шк., 1977. 383 с.
- Попов Н. С. Религиозные верования. Мифы // Марийцы: ист.-этногр. очерки. 2-е изд., доп. Йошкар-Ола, 2013. С. 287-307.
- Попов Н. С. Развитие этнографических исследований в МарНИИ // Развитие гуманитарных исследований в Республике Марий Эл: материалы науч. конф., посвящ. 90-летию Республики Марий Эл и 80-летию МарНИИЯЛИ. Йошкар-Ола, 2011. С. 184-194.
- Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии // Потебня А. А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. С. 285-378.
- Пушкарев Л. Н. Что такое менталитет. Историографические заметки // Отечественная история. 1995. № 3. С. 158-166.
- Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета. Москва: Флинта, 2013. 328 с.
- Ракитянский Н. М. Понятия сознания и менталитета в контексте политической психологии // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2011. № 6. С. 89-102.
- Соколов Ю. М. Русский фольклор. Москва, 1941. 559 с.
- Соколова А. А. Категория "ментальность" в дискуссиях отечественных ученых // Созидательная миссия культуры: сб. ст. молодых ученых. Москва: МГУКИ, 2001. С. 34-39.
- Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Москва: Астрель, 2006. 1176 с.
- Стрельник О. Н. Ментальность как проблема философии и науки // Вестник РУДН. Сер. Философия. 2016. № 1. С. 36-40.
- Хромова Е. Б. О некоторых подходах к исследованию феномена "менталитет" в социально-гуманитарном знании // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2017. № 1. С. 223-232.
- Черноусова И. П. Русская ментальность в зеркале языка фольклора (на примере фольклорной концептосферы, отраженной в диалоговых моделях эпических жанров). Липецк: ЛГПУ, 2013. 293 с.
- Шабунова А. А., Леонидова Г. В., Устинова К. А. Теоретико-методологические основы исследования ментальности и обусловленных ею стереотипов поведения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10, № 2. С. 60-75.
- Шабыков В. И. Межэтнические отношения в Республике Марий Эл в конце XX - начале XXI века: монография. Йошкар-Ола: [б. и.], 2014. 314 с.
- Шабыков В. И. Ценностная парадигма общественного сознания в Республике Марий Эл (на материале социологических исследований): монография / МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева. Йошкар-Ола, 2016. 176 с.
- Шабыков В. И., Орлова О. В., Зеленеева Г. С., Чемышев М. В. Научно-статистический бюллетень "Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл" // Социологические исследования межнациональных и межконфессиональных отношений: материалы межрегион. науч.-практ. конф. Йошкар-Ола, 2013. С. 163-431.
- Шаров В. Д. Марийский этнос: от традиции к современности. Йошкар-Ола: Виста-Принт, 2011. 300 с.
- Шкуратов В. А. Историческая психология. 2-е изд. Москва: Смысл, 1997. 505 с.
- Glukhova N. Poetics of Mari Incantations // Incantatio. An International Journal on Charms, Charmers and Charming. 2017. Vol. 5. P. 36-52.
- DOI: 10.7592/Incantatio2017_Glukhova
- Glukhova N. Structure and Style in Mari Charms. Bibliotheca Ceremissica. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1997. T. 3. 116 p.
- Kõiva M. The transmission of knowledge among Estonian Witch Doctors // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 1996. № 2. P. 12-35. URL: www.folklore.ee/folklore/vol2 (дата обращения: 15.08.2018).
- Kropej M. Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2003. № 24. P. 62-78. URL: https://www.folklore.ee/folklore/vol24 (дата обращения: 15.08.2018).
- Misharina G. Funeral and Magical Rituals among the Komi // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. № 47. P. 155- 172.
- Napolskikh V. Seven Votyak Charms // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 1997. № 5. P. 141-144. URL: http://www.folklore.ee/folklore/vol5/napolskikh.pdf (дата обращения: 15.08.2018).
- Panina T. Formulae for Expelling Illnesses / Diseases in Udmurt Charms and Prayers // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. Vol. 47. P. 145-154.
- Phinney J. S. Multigroup Ethnic Identity Measure: a new scale for use with different groups // Journal of adolescent research. 1992. № 7. P. 156-176.
- Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005 (FFC 288). 242 p.
- Roper J. English Orature, English Literature: the Case of Charms // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2003. № 24. P. 7-50. URL: https://www.folklore.ee/folklore/vol24 (дата обращения: 15.08.2018).
- Sebeok Th. Structure and Texture: Essays in Cheremis Verbal Art. Paris: The Hague Mouton, 1974. 158 p.
- Sebeok Th., Ingemann Fr. Publications in Cheremis: The Supernatural. Studies in Anthropology. New York: Viking Fund Publications in Anthropology, 1956. № 22. 357 p.