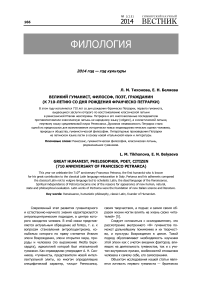Великий гуманист, философ, поэт, гражданин (к 710-летию со дня рождения Франческо Петрарки)
Автор: Тихонова Лилия Михайловна, Беляева Елена Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
В этом году исполняется 710 лет со дня рождения Франческо Петрарки, первого гуманиста, выдающиеся заслуги которого по восстановлению классической латыни в ренессансной Италии неоспоримы. Петрарка и его многочисленные последователи противопоставляли классическую латынь не народному языку (volgare), а схоластической латыни, мертвому языку средневековой науки Ренессанса. Духовная независимость Петрарки стала одной из предпосылок для возникновения исторически новых индивидуалистических оценок человека, природы и общества, гуманистической философии. Литературные произведения Петрарки на латинском языке легли в основу новой итальянской науки и литературы.
Ренессанс, гуманистическая философия, классическая латынь, родоначальник гуманизма
Короткий адрес: https://sciup.org/14113878
IDR: 14113878
Текст научной статьи Великий гуманист, философ, поэт, гражданин (к 710-летию со дня рождения Франческо Петрарки)
Современный этап развития гуманитарного и естественно-научного знания характеризуется антропоцентрическим подходом, в центре которого находится человек. В этой связи представляется актуальным обращение ad fontеs, т. е. к вопросам становления антропоцентризма, колыбелью которого по праву считается Италия эпохи Возрождения, эпохи открытия мира, природы и человека (по выражению Якоба Буркхардта), идеологией которой был итальянский гуманизм. Как справедливо утверждает А. Н. Санников, «гуманисты, представители новой интеллектуальной элиты, во многом определявшие специфический характер, «лицо» Ренессанса, своим творчеством, а подчас и самим своим образом жизни могли влиять на жизнь своих читателей» [5].
Следует согласиться с исследователем, что рассмотрение внутреннего «Я» гуманистов поможет дальнейшему пониманию и их творчества, и культуры Возрождения в целом. Такой подход обусловливает необходимость изучения этой эпохи как с учетом внешних факторов, влиявших на деятельность гуманистов, так и с учетом внутренних причин, особенностей отношения человека к самому себе, его самосознания.
Объектом исследования нашей статьи является личность первого гуманиста — Франческо
Петрарки (Franciscus Petracchi), одного из «трех венцов Флоренции» (Данте, Петрарка, Боккаччо), рассматриваемая через призму его творческого наследия, в том числе эпистолярного, а также полемических сочинений, диалогов и трактатов. Не менее важным фактором, обусловившим наш интерес к Петрарке, являются его заслуги по восстановлению в ренессансной Италии классической латыни.
Франческо Петрарка (1304—1374), итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса, родился 20 июля 1304 года в городе Ареццо в семье изгнанного из Флоренции нотариуса, однако детство будущего поэта прошло не там, а в Инчизе, в доме прадеда Гардзо, человека образованного (сограждане звали его «доктор Гардзо») и набожного. После долгих скитаний по городам Тосканы в 1312 году родители Франческо осели в Авиньоне (Франция), в котором сталкивались и причудливо переплетались самые различные культуры — итальянская, французская, провансальская, фламандская, германская [6, с. 47].
Школьный период жизни Петрарки, четыре года занимавшегося с маэстро Конвеневоле из Прато, характеризуется изучением латинского языка и римской литературы, в том числе грамматики, диалектики и риторики. Любовь к классической латыни, истории и культуре Древнего Рима Петрарка не только пронесет через всю жизнь, но и станет той движущей силой, которая приведет к перевороту в европейской истории, сыграет одну из ключевых ролей в деятельности гуманистов по восстановлению классической латыни. Сам Петрарка так напишет об этом: «С наибольшим рвением предавался я изучению древности, ибо время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках» [4, с. 14].
Следует отметить, что, будучи апологетом классической латыни, Петрарка и его многочисленные последователи противопоставляли её не народному языку (volgare), а схоластической латыни, мертвому языку средневековой науки. Как подчеркивает в этой связи Т. В. Якушкина, «гуманисты стремились не подменить латынью вольгаре, но вернуться к «высокоразвитому языку своего народа», древних римлян, чем и объясняется предпочтение латыни народному языку. В сознании XIV и следующего, XV века они не противопоставлены, а сопоставлены. Обе традиции существуют в сложном взаимодействии, и деятельность гуманистов по восстановлению классической латинской литературы существует наряду с литературой на народном языке» [7].
После окончания обучения Петрарка по настоянию отца начал изучать право — сначала в Монпелье, а затем в Болонском университете. Но юриспруденция мало интересовала юношу, который всё более и более увлекался классическими писателями. Как известно, Петрарка так и не стал юристом. В «Письме к потомкам» («Epistola ad posteros»), объясняя, почему оп прервал занятия правом и отказался от дела, в котором достиг бы «больших успехов, если бы продолжал начатое», Петрарка скажет: «…я совершенно оставил эти занятия лишь только освободился от опеки родителей не потому, чтобы власть законов была мне не по душе — ибо их значение, несомненно, очень велико и они насыщены римской древностью, которой я восхищаюсь, — но потому, что их применение искажается бесчестностью людскою. Мне претило углубляться в изучение того, чем бесчестно пользоваться я не хотел, а честно не мог бы, да если бы и хотел, чистота моих намерений неизбежно была бы приписана незнанию» [4, с. 16].
Возвратившись в Авиньон и оселившись при папском дворе, Петрарка принял сан «светского каноника». Приближенность Петрарки к кардиналу Джакомо Колонна, епископу Ламбезиско-му, давнему другу и покровителю, которого сам Петрарка называл «знаменитый и несравненный… человек, равного которому я едва ли видел и едва ли увижу» [4, с. 17], дала ему, сыну изгнанника, не только определенное положение, но и возможность играть какую-то роль в общественной жизни. По свидетельству ученых, несмотря на то, что Петрарка был рукоположен, вряд ли когда-либо он совершал богослужения. Следует подчеркнуть, что принятие сана открывало Петрарке путь к бенефициям, поэтому духовная независимость стала одной из предпосылок для возникновения тех исторически новых индивидуалистических оценок человека, природы и общества, которые характеризуют культуру Возрождения, тогда как материальная обеспеченность позволяла ему посвятить себя творчеству.
В этом контексте следует вспомнить об одном символическом факте в биографии Петрарки — по наследству от отца (который был изгнан из Флоренции с конфискацией всего имущества, а также приговорен к штрафу в виде отсечения руки) он получил только рукопись сочинений Вергилия, и именно литературные произведения сделали Петрарку знаменитостью.
Памятуя о том, какой отпечаток оставляют в характере человека и его духовном облике детские впечатления, следует хотя бы в нескольких словах остановиться и на образе матери Петрарки, Элетте Каниджани, которой, по справедливому утверждению Р. И. Хлодовского, «человечество обязано». Элетта Каниджани была необыкновенная женщина, которую Петрарка очень любил. Незадолго до смерти он скажет, что его мать была лучшей из матерей: «Matre omnium ilia optīma quas quidem vidērim».
Первый период в творчестве Петрарки датируется 1318—1333 гг. Самое раннее из дошедших до нас стихотворений Петрарки относится к 1318—1319 гг. Это написанный латинским гекзаметром «Панегирик покойной матери». В нем 38 строк — по количеству лет, прожитых Элеттой Каниджани. Стихотворение было клятвой матери в вечной памяти и вечной любви: «Vivēmus parĭter, parĭter memorabĭmur ambo». К сожалению, судить о первом периоде творчества Петрарки не представляется возможным, поскольку все письма и большая часть стихотворений, написанных до 1333 года, поэтом были уничтожены.
Период творческой зрелости Петрарки приходится на 1333—1353 гг. В эти годы окончательно складывается его мировоззрение, создаются основные литературные произведения на латинском языке, который Петрарка стал считать языком новой итальянской науки и литературы. Это свидетельствовало о существенных исторических изменениях, происшедших не только в творчестве самого Петрарки, но и во всей культуре Треченто и даже в социальной структуре средневекового общества [6].
На латыни были написаны героико-эпическая поэма «Afrĭca» («Африка», 1339—1341), историкобиографический сборник о выдающихся деятелях античности «De viris illustrĭbus» («О знаменитых людях», 1338—1358), диалогизированная исповедь «Secretum» («Моя тайна», 1342—1343), неоконченное историческое сочинение «Rērum memorandārum libri» («О достопамятных вещах и событиях», 1343—1345), двенадцать эклог «Bucolĭcum carmen» («Буколическая песнь», 1346—1348), трактаты «De vitā solitariā» («Об уединенной жизни», 1346) и «De otiō religiōsō» («О монашеском досуге», 1347), «Epistola metriсa» («Стихотворные послания», 1350—1352) и полемическое сочинение, направленное на защиту поэзии от нападок со стороны представителей «механических искусств», — «Invectivārum contra medĭcum libri IV» («Инвектива против врача в четырех книгах», 1352—1353).
Примечательно, что этот период начался со странствий. В 1333 году Петрарка совершил большую поездку по Северной Франции, Фландрии и Германии. Об этом периоде поэт так скажет в «Письме к потомкам»: «В то время обуяла меня юношеская страсть объехать Францию и Германию, и хотя я выставлял иные причины, чтобы оправдать свой отъезд в глазах моих покровителей, но истинною причиной было страстное желание видеть и изучить (познать) многое» («multa videndi ardor ас studium»).
Во время путешествия Петрарка устанавливал контакты с учеными, разыскивал в монастырских библиотеках забытые рукописи античных авторов, рассматривал памятники величия Рима. В годы странствий Петрарка как бы заново открыл эстетическую и духовную ценность природы для внутреннего мира нового человека, и с этого времени природа входит в этот мир, а следовательно, и в мир новой европейской поэзии как её неотъемлемая и очень важная часть [6]. Впрочем, самым важным художественным открытием Петрарки, сделанным во время странствий, стало крупнейшее открытие эпохи — «открытие человека».
К концу 1330-х гг. Петрарка — уже известный поэт. О влиянии на современников, а также об общественном интересе к его личности и творчеству красноречиво свидетельствует тот факт, что Петрарка почти одновременно получил предложение от Парижского университета, короля Неаполя — Роберта и Римского сената принять коронование золотым поэтическим лавровым венком [4]. Петрарка выбрал Рим и 8 апреля 1341 года — в пасхальное воскресенье — был венчан «как король всех образованных людей и поэтов» на Капитолийском холме. Речь Петрарки на Капитолии не просто стала первым манифестом ренессансного гуманизма, поскольку в ней цитировались одни лишь древнеримские классики, а не Ветхий и Новый заветы, как было принято в схоластической Европе, но и была sui genĕris декларацией его нравственных и общественно-политических воззрений.
Ключ к пониманию величия образа Петрарки и его роли в истории ренессансной культуры дает именно отказ от коронования в Париже. Об этом Р. И. Хлодовский пишет: «Если бы Петрарка был средневековым ученым, он не колебался бы ни минуты. В XIV веке Париж был крупнейшим центром тогдашней европейской науки, т. е. схоластики и богословия. Рим, после того как его покинули папы, пришел в полнейший упадок. На бывшем форуме паслись коровы. Там, где некогда блистал Цицерон, не осталось ни ораторов, ни философов, ни поэтов. …Но Петрарка не был средневековым ученым. …Брошенный папами Рим продолжал оставаться в глазах автора «Африки» «царем и главой мира». Здесь находилась земля, в которой «покоился прах древних поэтов». Вольно или невольно, но отказ Петрарки от университета и Парижа ради Сената и Рима приобретал глубоко символический смысл: это было отречение от средневекового богословия и схоластики во имя античной литературы и той новой науки о человечности, которую его непосредственные ученики и продолжатели станут называть «studia humanitātis», но которую сам он именовал еще просто — поэзия» [6, с. 9].
В этой связи нельзя не согласиться с учёным, что «днём рождения» европейского Возрождения следует считать именно 8 апреля 1341 года: «Точно так же думали гуманисты Возрождения. Они весьма решительно отделили Петрарку от Данте и именно в Петрарке видели не только своего духовного отца, но и родоначальника новой эры, наступление которой мыслилось ими как резкий переход от «мрака» средневековой «дикости» («ferĭtas») к «свету» культуры и человечности («humanĭtas»)» [6, с. 26].
Как подчеркивает Р. И. Хлодовский, «в последующие столетия в Европе мало было писателей, перед которыми современное им общество преклонялось бы так же охотно и столь же единодушно» [6, с. 28]. Другая исследовательница, Т. А. Мельникова, изучавшая феномен Петрарки в контексте культуры флорентийского общества, приводит такой факт, свидетельствовавший о невиданной популярности поэта: почитатели поэта из городской среды еще при жизни заказывали копии его произведений, а также изображения поэта и создавали в домах его «музеи» [3].
Свидетельства о популярности сонетов, инвектив, трактатов, писем, о характере их восприятия современниками содержат и многочисленные сочинения Петрарки. Вместе с тем эти свидетельства имеют и другую, историческую ценность, поскольку они также позволяют понять, какая культурная мода господствовала в это время в обществе, как рядовые горожане относились к книгам, предметам изобразительного искусства [3].
В этом контексте небезынтересны свидетельства Петрарки об отношении его сограждан к книгам: «Одни собирают книги, чтобы учиться, другие же — ради удовольствия собирать и из тщеславия. Некоторые украшают подобной утварью свое жилище, хотя она изобретена для украшения умов. Они используют книги и так же, как дорогие сосуды, картины, статуи и прочее... Есть и такие, которые под прикрытием книг служат своей жадности; эти худшие из всех, потому что ценят книги не ради их истинной ценности, а ради выгоды». Эти слова позволяют сделать однозначный вывод о том, что, с одной стороны, уже в XIV веке формируется четкое представление о книге как неотъемлемом элементе досуга и быта образованного человека, а с другой — книга становится предметом роскоши, одним из видов вложения денежных средств [3].
Мы намеренно уделили внимание этому факту, поскольку Петрарка был настоящим библиофилом, о чем красноречиво свидетельствует список принадлежавших ему книг, составленный им в 1336 году на последней странице латинского кодекса, хранящегося сейчас в Национальной библиотеке Парижа. На первом месте в нем стоят древнеримские писатели. Больше всего из них Петрарка почитал Вергилия, Цицерона и Сенеку. За ними следовали поэты Гораций, Овидий, Катулл, Проперций, Тибулл, Персии, Ювенал, Клавдиан; комедиографы Плавт и Теренций; историки Тит Ливии, Саллюстий, Светоний, Флор, Евтропий, Джустин, Эрозий, Валерий Максим; ораторы, философы и полигисторы Квинтилиан, Варрон, Плиний, Апулей, Авл Гелий, Макробий, Витрувий, Марциан Капелла, Помпоний Мела, Кассиодор, Боэций и др. [3].
Особое место в творчестве Петрарки занимает его эпистолярное наследие — письма (своеобразный литературный жанр, навеянный письмами Цицерона и Сенеки, был чрезвычайно популярен как вследствие их мастерского латинского слога, так и в силу разнообразного и актуального содержания) в виде обширной переписки Петрарки, дополняющей его биографию и творчество. Как подчеркивает Р. И. Хлодовский, все творчество Петрарки интроспективно. Самопознание и самоанализ становятся главными принципами не только его лирики, но и всей его жизненной философии [6, с. 75]. Безусловно, не всё, что Петрарка рассказывал о себе, было исторически точно, но «сами его неточности, как правило, показательны. Строя свой автобиографический образ, Петрарка сознательно типизировал в нем черты нового и в чём-то, с точки зрения XIV столетия, идеального человека первой поры европейского Возрождения» [6, с. 44].
Наиболее показательным в этом аспекте является произведение «Secrētum» s. «Secrētum meum» («Тайна», или «Моя тайна»). В некоторых списках оно имело подзаголовок «De secretō conflictu curārum meārum», т. е. «О тайной борьбе моих забот». В диалогах «Тайны» беседуют Франциско (Франческо Петрарка) и Августин (Блаженный). Их спор изложен в виде трех Бесед, ведущихся в присутствии безмолвствующей Истины, «которой любезна во всем простота, а лукавство противно». Характерно, что этот спор происходит в виде столкновения двух исторически различных идеологий. Показательно, что Петрарка не ограничился тем, что дал в «Тайне» новое определение человека и попытался эстетически обосновать правомерность требований земной, человеческой природы, он противопоставил средневековому пониманию, бессмертия свое — новое, гуманистическое… [6, с. 73].
Будучи адресованными то реальным, то воображаемым лицам, многие из писем Петрарки представляют собой моральные и политические трактаты, а также публицистические статьи. Так, «Epistŏla ad postēros» («Письмо к потомкам») — неоконченное автобиографическое письмо, содержащее две автобиографии: одна, неоконченная, в форме письма к потомству излагает внешнюю историю автора, вторая, в виде диалога Петрарки с блаженным Августином — «De contemptu mundi» («О презрении к миру», 1343) рассказывает о его нравственной борьбе и внутренней жизни.
Социальные и политические темы, по мнению Н. И. Девятайкиной [1], optimā formā изложены Петраркой в «De remediis utriusque fortūnae» («О превратностях судьбы», 1354— 1364), «Secrētum meum» («Моей Тайне», 1358), а также письме-трактате «De republĭca optĭme administranda» («О наилучшем управлении государством», 1373). В этих произведениях Петрарка поднимает вопросы, большинство из которых актуальны и ныне: о власти, тирании, папстве и империи, свободе и несвободе, выборах и правах гражданина, делах и нравственном облике правителя, о войне и мире. Как подчеркивает исследовательница, в представлениях Петрарки о власти внятно отражены новые социально-идейные установки времени. Гуманист со всей страстностью и убежденностью публициста доказывал, что для развития общества и стабильности политических порядков необходимы законность, справедливость, обеспечение и защита гражданских прав и свобод [1].
Интерес Петрарки к этическим вопросам описан в четырёх трактатах: «De remediis utriusque fortūnae» («О превратностях судьбы»),
«De vitā solitariā» («Об уединённой жизни»), «De otiō religiōsō» («О монашеском досуге») и «De verā sapientiā» («Об истинной мудрости»). Оставаясь в определенной мере клерикалом, Петрарка в этих трактатах, а также в переписке и других произведениях старается примирить свою любовь к латинской классической литературе с церковной доктриной, причём резко нападает и на схоластов, и на современное ему духовенство. Так, резкими сатирическими выпадами против развратных нравов «нового Вавилона» — папской столицы — переполнены «Epistolae sine titŭlo» («Письма без адреса»).
Критицизм Петрарки и его интерес к этическим вопросам обнаруживается и в сочинениях исторического характера — «De rebus memorandis libri IV» (сборник анекдотов и изречений, заимствованных из латинских авторов). Материал расположен по этическим рубрикам: об уединении, о мудрости etc. Целый трактат во второй книге этого сочинения посвящён вопросу об остротах и шутках. Многочисленные иллюстрации к этому произведению позволяют признать Петрарку основателем жанра короткой новеллы-анекдота на латинском языке, получившего дальнейшее развитие в уже упоминаемых ранее «Vitae virōrum illustrium» или «De viris illustrĭbus» («Жизни знаменитых мужей» или «О знаменитых мужах»).
Соответствуя идеалу гуманистов и будучи всесторонне развитой личностью, Петрарка не обошел вниманием и медицинскую тематику, детально исследованную Л. М. Лукьяновой [2], в работе которой основательно рассмотрен полемический трактат «Invectivārum contra medĭcum libri IV» («Инвектива против врача в четырех книгах»). Поводом написания инвективы послужило письмо Петрарки к заболевшему папе Клименту VI, в котором Петрарка предостерегал папу относительно некомпетентности окружающих его врачей. Один из них отреагировал на письмо публично, что заставило гуманиста вступить в полемику.
Рисуя яркий отрицательный образ представителя медицины, Петрарка следует античной традиции, в которой высмеивались невежественные врачи. Это связано с тем, что на протяжении многих столетий основным методом обучения медицине оставался практический, т. е. врач опирался на опыт своих предшественников и знакомых ему лекарей, не имея при этом достаточной теоретической естественно-научной подготовки. С появлением первых европейских университетов медицинские факультеты стали их неотъемлемой частью, но и здесь подготовка, мягко говоря, оставляла желать лучшего, поскольку в основном штудировались труды Гиппократа, Галена, Авиценны. Как пишет Л. М. Лукьянова [2], в одном из университетов, например, на изучение афоризмов Гиппократа было отведено 50 часов. При этом, получив формальное образование, многие врачи приобретали большой апломб, кичились своей учёностью и воображали, что могут успешно лечить людей [2]. Впрочем, во все времена пациент искал врача, способного вылечить, а не блистающего красноречием: «Non quaerit aeger medĭcum eloquentem, sed sanantem».
Собирательный образ современного амбициозного медика, получившего медицинское образование, но рассуждающего о поэзии, занимающегося философией и не умеющего вылечить больного, и выведен Петраркой в «Инвективе». При этом Петрарка как поклонник античности воздаёт должное знаменитым древним врачам: «Думаю, Гиппократ был мужем весьма учёным, думаю, что и Гален, опираясь на него, внёс много нового в медицину» и сравнивает их с теми невежественными врачами, с которыми ему пришлось общаться: «Если бы они могли вернуться в этот мир, то единодушно признали бы вас своими единственными и злейшими врагами, сгубившими плоды их трудов своей умственной тупостью, непролазной ленью и наглой ложью... ibid.» [2].
Рассуждая о том, что «медицинское искусство небесполезно и служит для помощи бренному телу», Петрарка справедливо замечает, что настоящие врачи всегда были редкостью: «Я знал нескольких настоящих врачей, одарённых и обладающих рассудительностью — качествами, необходимыми при любом ремесле». Но «тысячи людей подвергают себя опасности, отдаваясь в руки ненадёжных и говорящих разное врачей». Осуждая практику привлекать к лечению пациента одновременно нескольких врачей, Петрарка советует «выбирать одного из многих, выделяющегося не красноречием, а знаниями и добросовестностью» [2].
Медицинские темы присутствуют и в трактате «De remediis utriusque fortunae» («О средствах против счастья и несчастья», 1354—1360), объединяющем 254 диалога, многие из которых посвящены рассуждениям о человеческом теле, болезнях и телесном здоровье. Следуя традиции писем, в диалогах принимают участие вымышленные аллегорические персонажи — Печаль и Разум. Первая жалуется на то, как она страдает от разных телесных недугов, а второй убеждает своего оппонента в том, что всё можно преодолеть с помощью силы духа и добродетели.
Особую ценность для преподавателей латинского языка и медицинской терминологии заслуживают латинские названия старческих болезней, бытовавшие в XIV веке: «podăgra» (подагра), «caecĭtas» (слепота), «audītus perditus» (глухота, букв. — утрата слуха), «aegritudĭnes tibiārum» (болезни голеней, возможно, артрит или тромбофлебит). Два диалога посвящены «общественным» болезням: «scabies» (чесотке) и «pestis» (чуме).
Прекрасно понимая, что старческие недуги неизлечимы, гуманист указывает больным универсальное средство — терпение (patientia). Помимо терпения, Петрарка прибегает ещё и к такому виду утешения, как советы переключаться на такие виды деятельности, где определённая болезнь не может быть помехой. Болят ноги? Не горюй о том, что ты не можешь плясать или участвовать в состязаниях. У тебя есть возможность заниматься благородными искусствами, служить справедливости и вере, возненавидеть пороки, возлюбить добродетели, чтить дружеские связи, помогать родине советами — и ноги для этого не нужны. «Ты можешь лежать, а душа твоя может в это время подниматься, достигать неба и проникать в глубины земли и моря». Ты оглох? Но это не помешает тебе общаться с людьми с помощью чтения книг и писания писем [2].
В аспекте «Петрарка и медицина», по нашему мнению, заслуживает внимания и описание лица умирающего, известное как facies Hippocratica, вложенное в уста Августина, рассуждающего о смерти в «Secrētum meum» («Беседа первая»): «Общеизвестно и даже славнейшими из сонма философов засвидетельствовано, что среди вещей, наводящих страх, первенство принадлежит смерти до такой степени, что самый звук слова «смерть» искони кажется человеку жестоким и отталкивающим. Однако недостаточно воспринимать этот звук внешним слухом или мимолетно вспоминать о самой вещи: лучше изредка, но дольше помнить о ней и пристальным размышлением представлять себе отдельные члены умирающего — как уже холодеют конечности, а середина тела еще пылает и обливается предсмертным потом, как судорожно поднимается и опускается живот, как жизненная сила слабеет от близости смерти, — и эти глубоко запавшие, гаснущие глаза, взор, полный слез, наморщенный, свинцово-серый лоб, впалые щеки, почерневшие зубы, твердый, заостренный нос, губы, на которых выступает пена, цепенеющий и покрытый коркой язык, сухое нёбо, усталую голову, задыхающуюся грудь, хрип- лое бормотанье и тяжкие вздохи, смрадный запах всего тела и в особенности ужасный вид искаженного лица» [4, с. 66—67]. В приведённой выше цитате философского размышления о смерти почти слово в слово повторяется классическое описание лица умирающего человека, данное Гиппократом.
Наконец, когда мы говорим о Петрарке, нельзя обойти вниманием тот факт, что Петрарка по праву считается «прародителем патриотизма», идеологом единой великой Италии, наследницы римской славы, «наставницы народов». В этом контексте нельзя не согласиться с Т. В. Якушкиной, которая пишет: «Заданный Петраркой взгляд на Италию в историческом и географическом измерениях тиражируют его продолжатели в XVI веке. Наиболее характерными мотивами становятся ностальгия по Италии как стране античной культуры и противопоставление итальянцев народам, живущим за границей Альп, как наследников доблестных латинян алчным и отсталым варварам. …в «Книге песен» итальянцы находят ту систему взглядов и оценок, которая наиболее точно отвечала их формирующемуся чувству национального. Присутствие одних и тех же мотивов в поэзии, в исторических документах эпохи, а главное — в итальянской литературе Нового времени… позволяет говорить о том, что в петраркизме мы имеем дело с первыми попытками массового выражения чувства национального, с системой национальных ценностей. Ими являются красота, любовь, слово, Бог» [7].
Умер Петрарка так же достойно, как и жил: желание Петрарки, высказанное в письме к своему другу Боккаччо, чтобы смерть застала его читающим или пишущим, исполнилось. Великого гуманиста, философа, поэта, гражданина, патриота нашли мертвым за один день до его семидесятилетия — за столом с пером в руке над жизнеописанием Юлия Цезаря. И это стало последним символом в великой жизни великого человека, ставшего одним из символов великой эпохи…
-
1. Девятайкина Н. И. Петрарка как общественная личность перед лицом власти // Индивидуальное и коллективное в истории : материалы Международной конф. 24—27 сентября 2001 г. Саратов. URL: http://www.sgu.ru/files/nodes/9679 /R4.pdf.
-
2. Лукьянова Л. М. Медицинская тема в творчестве Петрарки. URL: http://www.sgu.ru/faculties/historical /sc.publication/Sred_vek/petrarca/petrarca.php.
-
3. Мельникова Т. А. Новое и традиционное в культурной жизни флорентийского городского общества XIV — начала XV вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2006. 24 с.
-
4. Петрарка Франческо. Лирика. Автобиографическая проза. М. : Правда, 1989. 480 с.
-
5. Санников А. Н. Становление самосознания итальянского гуманиста Лоренцо Валлы : автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2007. 25 с.
-
6. Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М. : Изд-во «Наука», 1974. 186 с.
-
7. Якушкина Т. В. Итальянский петраркизм XV—XVI
веков: традиция и канон : автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2009. 38 с.
Список литературы Великий гуманист, философ, поэт, гражданин (к 710-летию со дня рождения Франческо Петрарки)
- Девятайкина Н. И. Петрарка как общественная личность перед лицом власти//Индивидуальное и коллективное в истории: материалы Международной конф. 24-27 сентября 2001 г. Саратов. URL: http://www.sgu.ru/files/nodes/9679/R4.pdf.
- Лукьянова Л. М. Медицинская тема в творчестве Петрарки. URL: http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/Sred_vek/petrarca/petrarca.php.
- Мельникова Т А. Новое и традиционное в культурной жизни флорентийского городского общества XIV -начала XV вв.: автореф. дис. канд. ист. наук. Саратов, 2006. 24 с.
- Петрарка Франческо. Лирика. Автобиографическая проза. М.: Правда, 1989. 480 с.
- Санников А. Н. Становление самосознания итальянского гуманиста Лоренцо Валлы: автореф. дис. канд. ист. наук. Иваново, 2007. 25 с.
- Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М.: Изд-во «Наука», 1974. 186 с.
- Якушкина Т В. Итальянский петраркизм XV-XVI веков: традиция и канон: автореф. дис. д-ра филол. наук. СПб., 2009. 38 с.