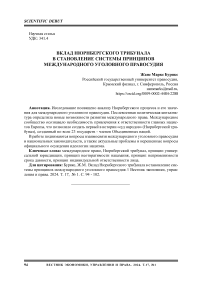Вклад Нюрнбергского трибунала в становление системы принципов международного уголовного правосудия
Автор: Бурякс Ж.М.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу Нюрнбергского процесса и его значения для международного уголовного правосудия. Послевоенная политическая конъюнктура определила новые возможности развития международного права. Международное сообщество осознавало необходимость привлечения к ответственности главных нацистов Европы, что позволило создать первый в истории «суд народов» (Нюрнбергский трибунал), созданный по воле 23 государств - членов Объединенных наций. В работе поднимаются вопросы взаимосвязи международного уголовного правосудияи национальных законодательств, а также актуальные проблемы и нерешенные вопросы официального осуждения идеологии нацизма.
Международное право, нюрнбергский трибунал, принцип универсальной юрисдикции, принцип неотвратимости наказания, принцип неприменимости срока давности, принцип индивидуальной ответственности лица
Короткий адрес: https://sciup.org/142241900
IDR: 142241900 | УДК: 341.4
Текст научной статьи Вклад Нюрнбергского трибунала в становление системы принципов международного уголовного правосудия
Крымский филиал, г. Симферополь, Россия ,
Simferopol, Russia
Одним из результатов окончания Второй мировой войны стало значительное преобразование международного права. В основе современного международного права лежат идеи, выработанные при создании устава Нюрнбергского трибунала (далее -МВТ)1 и Устава Организации Объединенных Наций (далее - ООН)2.
Послевоенная политическая конъюнктура определила новые возможности разви- тия международного права. Международное сообщество осознавало необходимость привлечения к ответственности главных нацистов Европы, что позволило создать первый в истории «суд народов» (Нюрнбергский трибунал), созданный по воле 23 государств - членов Объединенных наций. Председатель международного военного трибунала лорд-судья Д. Лоренс во вступительной речи заявил: «Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре» [4, c. 357].
Опыт, полученный в результате работы данного трибунала, придал новое оформление основам международной уголовной юстиции. В ходе проведения МВТ апробированы принципы международного правосудия. А.И. Полторак утверждал: «Противники нюрнбергских принципов прибегают к проблеме действия уголовного закона во времени, критика сводится к тому, что Устав МВТ будто бы грубейшим образом нарушает принципы « nullum crimen sine lege » (лат. «нет преступления без закона») и « ex post facto » (лат. «обратная сила закона»). Что же касается действия закона в пространстве, то здесь критика сводится к тому, что Устав якобы нарушает общепризнанные положения принципа «lex loci» (лат. «закон места») …» [6, с. 57].
Описание исследования
Рассмотрим принципы, в оформлении которых участвовал Нюрнбергский трибунал.
Принцип универсальной юрисдикции.
Уместно упомянуть утверждение И. В. Фисенко: «Универсальная юрисдикция вытекает из всеобщего осуждения данного преступления. В этом случае неважно, какое государство судит преступника; главное, чтобы он был привлечен к ответственности» [11, с. 38]. В заявлении главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Р. Х. Джексона прослеживается данный принцип: «Честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность» [4, с. 390].
Согласно ст. 22 Устава Нюрнбергского трибунала «постоянное местонахождение Трибунала - Берлин. Первые заседания чле- нов Трибунала и Главных Обвинителей состоятся также в Берлине, в том месте, которое будет определено Контрольным Советом в Германии. Первый процесс состоится в Нюрнберге, а последующие процессы состоятся в местах по определению Три-бунала»3.
Важно отметить, что «последующие процессы» также опирались на Нюрнбергский трибунал. Так, после МВТ было проведено 12 таких процессов.
Основной особенностью последующих процессов было то, что, в отличие от Нюрнбергского трибунала, последующие проводились военными трибуналами США, а не трибуналом представителей разных государств.
В качестве примера приведем судебный процесс над врачами (« The Medical Case» , 9 декабря 1946 г. - 20 августа 1947 г.), в ходе которого 23 подсудимых были обвинены в преступлениях против человечности, включая медицинские эксперименты над военнопленными. Обвинитель бригадный генерал Т. Тейлор утверждал: «Подсудимые по этому делу обвиняются в убийствах, пытках и других зверствах, совершенных во имя медицинской науки. Жертвы этих преступлений исчисляются сотнями тысяч…то были 200 евреев в хорошей физической форме, 50 цыган, 500 больных туберкулезом поляков или 1000 русских. Жертвы этих преступлений числятся среди безымянных миллионов, которые встретили смерть от рук нацистов и чья судьба является отвратительным пятном на странице современной истории» [9, с. 27].
Таким образом, Нюрнбергский трибунал оказал влияние на последующее международное уголовное судопроизводство, способствуя закреплению принципа универсальной юрисдикции в международном праве.
Данный принцип также отражен в п. 10 Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года: «Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены как нация, но все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание» [2, с. 358]. Так было положено начало Токийскому процессу (с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г.).
Основные правила Токийского процесса совпадают с Нюрнбергским. В отличие от Нюрнбергского трибунала, Токийский не был согласован в договорном порядке союзниками. Еще одной отличной чертой Токийского процесса стало применение правила «иммунитета». П.В. Агапов и К.В. Шевелеева, так оценили трибунал: «Токийский трибунал над военными преступниками, проходивший в Токио с 1946 года по 1948 год, осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала (1945-1949), скрыл преступления японских военных против человечества, что позволило целому ряду разработчиков и испытателей бактериологического оружия избежать наказания»4. Император Хирохито не был привлечен к суду за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. В числе избежавших ответственности оказался, например, начальник «Отряда 731» генерал-лейтенант Исии Сиро. Думается, что подобное «исключение» имело политическое обоснование.
Стоит отметить, что принцип универсальной юрисдикции не получил официального закрепления в Уставе Нюрнбергского трибунала и Принципах международного права, признанных статутом Нюрнбергского трибунала и нашедших выражение в решении этого Трибунала5.
Однако он системно предусматривается в универсальных международных договорах, содержащих нормы международного уголовного права: Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 года; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года; Конвенция ООН по морскому праву 1982 года и других. Принцип универсальной юрисдикции был применен в деле бывшего диктатора Чили Ав-густо Пиночета (1998), основанном на предписаниях Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания [1, с. 243].
Также принцип универсальной юрисдикции закреплен в Римском статуте Международного уголовного суда 1998 года (далее - МУС). МУС применяет универсальную юрисдикцию в «ограниченной степени». Однако согласно п. 3 ст. 12 Римского статута МУС предусмотрена возможность обращения государства, которое не ратифицировало статут, реализуя принцип универсальной юрисдикции6.
В качестве примера можно привести резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН от 31 марта 2005 года. Реализуя принцип универсальности, Совет Безопасности постановил передать ситуацию в Дарфуре (Судан не является участником Римского Статута) за период с 1 июля 2002
года Прокурору Международного уголовного суда7.
Принцип неотвратимости наказания и принцип неприменимости срока давности.
Принцип неотвратимости наказания существует во взаимосвязи с принципом неприменимости срока давности и оба являются основными принципами международного уголовного права. Они подразумевают, что лица, совершившие серьёзные международные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и др., должны быть привлечены к ответственности вне зависимости от временного интервала с момента совершения преступления.
Принцип неприменимости срока давности основан на идее, что определенные преступления настолько серьезны, что заслуживают постоянного преследования, вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента их совершения.
Ст. 6 Устава МВТ, в которой указаны преступные деяния, по которым не применяется срок давности, стала основной для последующего международного правотворчества по данному вопросу. Принцип неприменимости срока давности предусмотрен, например, в Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности8. Эта конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 году и вступила в силу в 1970 году. Она подтверждает, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности.
Так, согласно ст. 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным пре- ступлениям и преступлениям против человечества никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям, независимо от времени их совершения:
-
a ) военные преступления, как они определяются в Уставе Международного нюрнбергского военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также, в частности, «серьезные нарушения», перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.;
-
b) преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Международного нюрнбергского военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены.
Преступления против человечности, военные преступления, аналогичные тому, как он установлены в ст. 6 Устава МВТ, в соответствии с положениями Римского статута МУС, не подпадают под сроки дав-ности9.
Ряд государств самостоятельно принимает законы, отменяющее сроки давности для тяжких преступлений, включая те, что классифицируются как международные. В качестве примера можно привести дело А. Эйхмана. Он был задержан на территории Аргентины и привлечен к ответственности в Израиле за преступления против евреев, а также в участии в преступных структурах «СД», «СС» и «Гестапо». В результате он был приговорен к смертной казни путем повешения. Приговор исполнен в 1962 году [3, с. 52].
Таким образом, принцип неприменимости срока давности к преступлениям, установленный в статье 6 Устава МВТ, подчеркивает убеждение международного сообщества в том, что нарушения определенных основополагающих норм не должны оставаться безнаказанными вследствие истечения времени. Эта норма гарантирует, что преступления против человечности и международного гуманитарного права будут преследоваться независимо от времени их совершения.
Принцип индивидуальной ответственности лица.
Согласно ст. 6 Устава МВТ «Трибунал… для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси имеет право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси индивидуально или в качестве членов организации, совершили любое из следующих преступлений… а) преступления против мира… b) военные преступления… с) преступления против человечности…»10.
Так, вынося приговор одному из обвиняемых Г. Герингу, трибунал привел ос- нования, по которым признал подсудимого виновным, применяя принцип индивидуальной ответственности лица. Приведем одно из таких оснований: «В качестве уполномоченного Геринг был активным руководителем разграбления захваченных территорий. Он разработал планы разграбления советской территории задолго до начала войны с Советским Союзом…» [5, с. 662].
В соответствии с Уставом Нюрнбергского трибунала 24 представителя высшего руководства фашистской Германии обвинялись в совершении:
-
1) преступлений против мира;
-
2) военных преступлений;
-
3) преступлений против человечности;
-
4) в составлении или осуществлении общего плана или заговора11.
По итогам МВТ были признанными виновными по разным разделам обвинения 19 подсудимых. 11 были приговорены к смертной казни. Впервые в рамках международного права были привлечены к уголовной ответственности физические лица, отвечающие индивидуально перед обвинением «суда народов».
Таким образом, МВТ выработал принцип индивидуальной ответственности, согласно которому создавались условия для признания у физических лиц международной правосубъектности в международном уголовном праве. О.В. Тарасов подчеркивает: «Привлечение физического лица к международной уголовной ответственности непосредственно на основании норм международного права в специально созданном для этого международном уголовном судебном органе является ярчайшим подтверж- дением международно-правовой деликтос-пособности человека...» [10, с. 221].
Данный принцип действует и в современном международном уголовном праве. Так, согласно ст. 25 Римского Статута МУС: «1. Суд обладает юрисдикцией в отношении физических лиц в соответствии с настоящим Статутом. 2. Лицо, которое совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, несет индивидуальную ответственность и подлежит наказанию в соответствии с настоящим Статутом»12 .
Рассмотренные в данной работе принципы, по нашему мнению, являются ключевыми в формировании действующего международного уголовного правосудия. На сегодняшний день мы наблюдаем преемственность положений, выработанных Нюрнбергским трибуналом. Однако достичь совершенной формы развития международного уголовного правосудия пока не удалось. Как пишет А.Н. Савенков: «Однако до сих пор нюрнбергские принципы не нашли полного воплощения в теории и практике международного уголовного права. При этом, учитывая их фундаментальное значение для обеспечения стабильности и развития системы международного права и международного порядка в целом, актуальным и востребованным сегодня является формирование универсального подхода к их реализации на основе обеспечения верховенства права и главенствующей роли Устава ООН» [8, с. 222].
Еще одним следствием Нюрнбергского трибунала стало признание нацизма преступлением против норм международного права. Неопределенность в идентификации нацистских преступлений (тех, что были совершены нацистами в Германии в период с 1933 по 1945 годы, и тех, которые происходят в настоящее время под эгидой неонацизма), создает двойственность в их правовой оценке. Такого же мнения придерживается В.В. Ровнейко: «…хотя национальное законодательство многих государств предусматривает уголовную ответственность в той или иной форме за реабилитацию нацизма, отсутствие такого договора делает невозможным применение универсальной юрисдикции в отношении данного преступления» [7, с. 882].
Заключение
Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные в данной работе принципы были впервые применены на практике Нюрнбергским трибуналом. Данные принципы получили воплощение в международном уголовном праве и национальных уголовных законодательствах. «Рабочий» характер исследованных принципов подтверждает их широкое применение в МУС и иных международных судебных учреждениях, указание на них в конвенциях, посвященных борьбе с различным международными преступлениями, использование их в национальных законодательствах и судебной практике.
Список литературы Вклад Нюрнбергского трибунала в становление системы принципов международного уголовного правосудия
- Bianchi, A. Immunity versus human rights: the Pinochet case //European Journal of International Law. 1999. Т. 10, №. 2. С. 237-277.
- Декларация глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая о Японии (Потсдамская декларация). 26 июля 1945 г. // Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Сборник документов. Т. 6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав СССР, США и Великобритании (17 июля - 2 авг. 1945 г.) М.: Политиздат, 1980. 512 с.
- Зубец, О. П. Суд над Эйхманом: этический взгляд // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2(99). С. 51-61.
- Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т. Т. 1 / Отв. ред., автор предисл. А.М. Рекун-ков. М.: Юрид. лит., 1987. 688 с.
- Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т. Т. 8 / Сост., автор предисл., отв. ред. Н С. Лебедева. М.: Юрид. лит., 1999. 792 с.
- Полторак, А.И. Нюрнбергский процесс: основные правовые проблемы. М.: Изд-во "Наука", 1966. 351 с.
- Ровнейко, В.В. Проблемы уголовно-правовой оценки реабилитации нацизма как преступления международного характера // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2021. Т. 31, № 5. С. 882-890.
- Савенков, А.Н. Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной юстиции. М.: Институт государства и права РАН. 2022. 512 с.
- Судебные процессы над военными преступниками в Нюрнбергских военных трибуналах в соответствии с законом № 10 Контрольного совета. Тома 1-15. Вашингтон, Округ Колумбия: Типография правительства США, 1949-1953. 1004 с. (Т. 1)
- Тарасов, О.В. Международная правосубъектность человека в практике Нюрнбергского трибунала // Проблемы законности. 2011. № 115. С. 221-227.
- Фисенко, И.В. Проблемы универсальной юрисдикции и экстрадиции в международном уголовном праве. Международный уголовный суд в качестве альтернативного решения // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 2. С. 38-31.