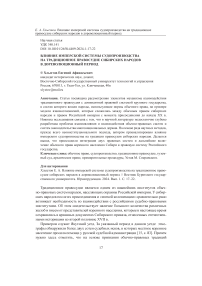Влияние имперской системы судопроизводства на традиционное правосудие сибирских народов в дореволюционный период
Автор: Хлыстов Е.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Теория и история права
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению элементов механизма взаимодействия традиционного правосудия с доминантной правовой системой крупного государства, в состав которого вошли народы, использующие нормы обычного права, на примере модели взаимоотношений, которые сложились между обычным правом сибирских народов и правом Российской империи с момента присоединения до начала ХХ в. Новизна исследования связана с тем, что в научной литературе недостаточно глубоко разработана проблема взаимовлияния и взаимодействия обычно-правовых систем и систем законодательства многонациональных держав. На основе ряда научных методов, прежде всего неоинституционального подхода, автором проанализировано влияние имперского судопроизводства на традиции правосудия сибирских народов. Делается вывод, что происходили интеграция двух правовых систем и дальнейшее включение обычного права коренного населения Сибири в правовую систему Российского государства.
Обычное право, судопроизводство, традиционное правосудие, туземный суд, архаическое право, примирительные процедуры, устав м. сперанского
Короткий адрес: https://sciup.org/148328981
IDR: 148328981 | УДК: 340.141 | DOI: 10.18101/2658-4409-2024-1-17-22
Текст научной статьи Влияние имперской системы судопроизводства на традиционное правосудие сибирских народов в дореволюционный период
Хлыстов Е. А. Влияние имперской системы судопроизводства на традиционное правосудие сибирских народов в дореволюционный период // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2024. Вып. 1. С. 17–22.
Традиционное правосудие является одним из важнейших институтов обычно-правовых систем народов, населяющих окраины Российской империи. У сибирских народов после их присоединения и «мягкой колонизации» сравнительно рано возникает необходимость во взаимодействии с российскими судебно-правовыми институтами. Об этом свидетельствует наличие большого количества различных жалоб и писем от представителей коренного населения, которые в настоящее время сохранились в архивных документах Сибирского приказа, отнесенных отечественными историками ко второй половине XVII в.
Примером служит Якутский уезд. За указанный период в данном уезде этнографы обнаружили более двух сотен судебных исков, в которых местное коренное население просила помощи у русской судебной администрации [15, с. 83]. Причем нужно здесь отметить, что на основе признания обычно-правовых традиций в Соборном уложении 1649 г. местная администрация в реальной судебно-процессуальной практике использовала «законы предков», что во многом способствовало созданию обычного права [6, с. 181], которое в последующем становится частью имперской системы судопроизводства.
Однако следует констатировать на настоящий момент недостаточную степень научной изученности взаимодействия органов самоуправления сибирских инородцев, в частности бурят, с судебными учреждениями имперской администрации и формы их судопроизводства [16, с. 12].
Известный советский исследователь юстиции народов Российской империи В. А. Зибарев справедливо замечает, что применение традиционного правосудия («туземного суда») и в целом норм обычного права народов Сибири в процессуальном законодательстве государства не было чем-то исключительным в политике российского самодержавия. Аналогичная практика имела место и в других национальных окраинах империи [7, c. 12]. Однако вплоть до реформы управления и суда в Сибири, проведенной М. М. Сперанским, имперское законодательство, связанное с правосудием, было достаточно фрагментарным, не систематизированным. Российские законодатели старались не вмешиваться открыто в систему традиционного правосудия сибирских народов, отдавая почти все на откуп «инородческого суда». Это приводило к тому, что многие аспекты общественной жизни представителей коренных народов Сибири не были регламентированы [14, с. 11].
Не случайно Д. Е. Лаппо даже в начале ХХ в. верно отметил, что «законодательство наше по отношению к сибирским кочевым инородцам в рассматриваемой области является в высшей степени невыдержанным» [10], недостаточно разработанным и систематизированным.
Решающую роль в процессе взаимодействия традиционного правосудия сибирских и других народов империи играли условия социально-экономического устройства этнических общностей, особенности их политогенеза, связанные с наличием устоявшихся форм разбирательства различных конфликтов внутри общины. В целом к середине XIX в. большинство сибирских народов находилось еще на стадии доклассового общества, когда письменное право еще не сложилось. То есть «феномен нормативной практики, дистанция их движения от архаической стадии к раннеклассовой была разной» [8, c. 48]. Именно по этой причине начавшиеся модернизация и систематизация российского права во второй четверти XIX в. натолкнулись на серьезное противодействие, что привело в итоге к консервации системы правосудия у сибирских инородцев.
Несмотря на все усилия реформировать традиционное правосудие, Устав об управлении инородцев 1822 г. фактически закрепил те судебно-процессуальные отношения, которые существовали до реформы. Функции правосудия были переданы главам родов, которые судили местное население единолично. Данная процессуальная система существовала достаточно долго. Например, якутских инородцев судили исключительно в рамках наслегов (оседлых общин) до установления власти Советов [16, c. 42]. Как верно указывает В. А. Рязановский в очерке о монгольском праве, Устав 1822 г. сохранил широкий простор за родовым обычаем [13, с. 159].
Необходимо отметить, что судебный фронтир проходил по критерию тяжести правонарушений, поскольку так называемые криминальные (то есть уголовные) дела не были переданы местным инстанциям инородческого суда, за ними оставались только исковые дела1. Это означало, что только серьезные правонарушения криминального цикла, связанные с грабежами, разбоями, поджогами, убийствами различных степеней, а также рецидивы передавались сразу на рассмотрение русской судебной администрации [4].
Исследователи, изучающие имперскую систему правосудия на восточных окраинах государства, в частности В. А. Воропанов, справедливо замечают, что в дореформенный период центральные власти в основном использовали «мягкий» подход к законодательной регламентации судебных процедур, вводили упрощенный порядок в местном правосудии, различные мировые соглашения между судебными органами и родовыми судами сибирских инородцев. Причем регламентация касалась в основном компетенции родовых начальников в сфере судопроизводства, устанавливались наиболее общие правила, а также порядок применения мер юридической ответственности для лиц, осуществляющих правосудие [3, с. 117].
С течением времени, а именно к концу XIX в., ситуация существенно меняется в сторону усиления влияния имперской системы правосудия и ее институтов на традиционное правосудие сибирских инородцев. Были внесены существенные изменения в законодательство. В статье 173 новой редакции Уложения о наказаниях в 1885 г. появилась норма, согласно которой наказания в отношении правонарушителей из числа кочующих и бродячих сибирских инородцев за преступления небольшой тяжести стали назначаться исходя из общих законов империи, хотя и судились они при этом по имеющимся на тот период обычно-правовым установлениям.
Что касается судебной реформы 1864 г., то она, как известно, не внесла существенные изменения в систему традиционного правосудия сибирских инородцев. Низший суд и после этой реформы оставался исключительно в руках родового начальника. В связи с этим не согласимся с мнением исследователей, что у оседлых инородцев начисто уничтожались традиционные институты [12, c. 106], в том числе инородческое правосудие. Более того, некоторые инородцы, занимающиеся преимущественно сельским хозяйством, земледелием, имели собственные судебные учреждения. Они всячески стремились сохранять и даже приумножать собственную судебно-процессуальную обособленность, поскольку это отвечало социально-классовым интересам знати родов, позволяя ей бесконтрольно властвовать над общинным населением своего социума [11, c. 104].
Кроме вышеназванных изменений в Уложении о наказаниях в том же 1885 г. были законодательно утверждены «Временные правила о некоторых изменениях по судопроизводству в губерниях Тобольской и Томской, Восточной Сибири и Приамурском крае». Этот акт усилил роль окружных судов в сибирском крае, внеся некоторые реформы. Окружный суд становится апелляционной инстанцией и по исковым делам для инородческого суда (так называемой словесной расправы)
в соответствии с нормами Устава гражданского судопроизводства. Инородные управы в судебном процессе непосредственно стали подчиняться окружным судам [9, с. 108].
Если рассматривать с точки зрения неоинституционализма, то созданные окружные суды и другие судебные учреждения представляли неформальные институты, а суды словесной расправы можно отнести к неформальным [2]. Справедливость такого разделения судебно-процессуальных институтов доказывает тот факт, что суда как государственного института в степных думах не существовало, т. е. все жалобы и претензии рассматривались на сугланах, которые выносили судебные приговоры [5, с. 3].
Реальная практика традиционного правосудия привела в итоге к тому, что инородческие суды (словесная расправа) во многом носили характер общенародного собрания (сугланы). Именно процессуальные решения сугланов рассматривались местным населением как окончательный и справедливый акт. В результате это приводило к тому, что на решения сугланов практически никогда не поддавались апелляционные жалобы в более высокие судебные инстанции округов.
Если сравнить такую систему традиционного правосудия с зарубежными державами, особенно европейскими, то мы можем увидеть совершенно другую картину. К концу эпохи нового времени европейское общество практически изжило традиционное общинное правосудие. Такая ситуация была связана преимущественно с тем обстоятельством, что сами социальные условия жизнедеятельности общинных структур в Европе коренным образом изменились и система традиционного правосудия стала совершенно ненужной, лишним процессуальным институтом [1, с. 23].
Однако за пределами Европы, в сибирских окраинах Российской империи, как мы видим, дела обстояли несколько иначе. Различие заключалось именно в том, что модернизация судебной системы в сибирском крае была запоздалой, собственно, реформа в Сибири фактически началась только в 1897 г. Путем «мягкой» трансформации происходило включение инородческой судебной системы в имперскую систему судопроизводства. Только в самом конце века роль инородческого суда была существенно сужена, особенно это касалось забайкальских бурят.
В результате созданная на сибирских окраинах к концу дореволюционной эпохи судебно-правовая система, с одной стороны, была направлена на интеграцию региона в общеимперское правовое пространство, с другой стороны, имея сложносоставной характер и будучи потенциально «конфликтной», определяла специфику модернизационных процессов, когда происходило постоянное смещение фронтира в сторону усиления влияния государственно организованного права в виде имперского судопроизводства.
Такое положение дел было вызвано прежде всего тем, что невозможно было обеспечить единообразное исполнение законов на большой территории Российской империи, и только к началу ХХ в. обычно-правовые системы сибирских инородцев, включая и систему традиционного («туземного») правосудия, вошли в общеимперскую систему законодательства.
Список литературы Влияние имперской системы судопроизводства на традиционное правосудие сибирских народов в дореволюционный период
- Автономов А. С. Традиционное правосудие: история и современность (окончание) // Государство и право. 2018. № 10. С. 23–32. Текст: непосредственный.
- Валиев Р. Г. Правовая институционализация и институты права: Концептуальная модель // LexRussica. 2020. № 4. С.103–116. Текст: непосредственный.
- Воропанов В. А. Низшие суды в системе правосудия Российской империи во второй половине XVIII — первой половине XIX вв. (на примере губерний Урала и Западной Сибири) // Социум и власть. 2010. № 1(25). С. 112–117. Текст: непосредственный.
- Гылыкова Е. С. Обычное право бурят (историко-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2005. 24 с. Текст: непосредственный.
- Даржаев С. Ю. Суд и судопроизводство у бурят в XIX — начале XX в.// Государственное управление. Электронный вестник. 2008. Вып. 15. С. 1–10. Текст: электронный.
- Конев А. Ю. Народы Северо-Западной Сибири в XIX столетии: обычное право и имперское законодательство // Отечественная история. 2004. № 2. С. 180–185. Текст: непосредственный.
- Зибарев В. А. Юстиция у малых народов Севера (XVII–XIX вв.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. 208 с. Текст: непосредственный.
- Карлов В. В. Обычное право народов Сибири и его изучение // Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). Москва: Старый сад, 1997. С. 47–73.
- Курас Л. В., Жалсанова Б. Ц. Российское законодательство о суде, судопроизводстве в бурятском обществе в XIX в. и органы местного самоуправления бурят // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 406. С. 108–112. Текст: непосредственный.
- Лаппо Д. Е. Преступления и наказания по степному праву сибирских кочевых инородцев (минусинские татары). Красноярск: Тип. Енисейского губернского управления, 1905. 57 с. Текст: непосредственный.
- Наумкина В. В. Меры взыскания по исковым делам кочевых инородцев Восточной Сибири в XIX веке // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2010. № 1 (5). C. 103–105. Текст: непосредственный.
- Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления / ответственные редакторы С. Г. Агаджанов, В. В. Трепавлов. Москва: Славянский диалог, 1998. 416 с. Текст: непосредственный.
- Рязановский В. А. Монгольское право (преимущественно обычное). Исторический очерк. Харбин: Типография Н. Е. Чинарева, 1931. 352 с. Текст: непосредственный.
- Сивкова А. В. Сибирь в системе имперского законодательства в 70-е годы ХVIII — 80-е годы XIX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Улан-Удэ, 2006. 26 с. Текст: непосредственный.
- Токарев С. А. Очерк истории якутского народа. Москва: Гос. социально-экономическое изд-во, 1940. 247 с. Текст: непосредственный.
- Федоров Г. С. К вопросу формирования «инородческого суда» народа саха // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Сер. История. Политология. Право. 2019. № 4. С. 41–46. Текст: непосредственный.
- Цыдэнэ Ш. Ц. Отечественная историография истории органов местного самоуправления бурят (конец XVIII — первая четверть XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Улан-Удэ, 2022. 22 с. Текст: непосредственный.