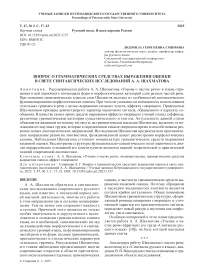Вопрос о грамматических средствах выражения оценки в свете синтаксических исследований А. А. Шахматова
Автор: Смирнова Л.Г.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 3 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается работа А. А. Шахматова «Учение о частях речи» в плане отражения в ней оценочного потенциала форм и морфологических категорий слов разных частей речи. При описании грамматических классов слов Шахматов исходил из особенностей синтаксического функционирования морфологических единиц. При этом он указывал на возможность использования отдельных граммем в речи с целью выражения сильных чувств, аффекта говорящего. Приводимые Шахматовым примеры демонстрируют характер оценочного сигнала, обращенного к адресату сообщения. В качестве самых ярких средств выражения аффекта говорящего ученый указал суффиксы, различные грамматические категории существительного и глагола. Актуальность данной статьи объясняется желанием по-новому взглянуть на грамматическое наследие Шахматова, выделить те положения его научных трудов, которые в определенном смысле опередили время и способствовали развитию новых лингвистических направлений. Исследования Шахматова предвосхитили прагматическое направление развития лингвистики, функциональный аспект рассмотрения морфологических единиц. Наблюдения Шахматова уточняют номенклатуру грамматических средств выражения языковой оценки. Рассмотрение структуры функционально-семантического поля оценочности, анализ иерархических отношений его конституентов являются важной теоретической и практической задачей современной лингвистики.
А. а. шахматов, «учение о частях речи», языковая оценка, грамматические средства выражения оценки, аффект говорящего
Короткий адрес: https://sciup.org/147247860
IDR: 147247860 | УДК: 81-23 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1157
Текст научной статьи Вопрос о грамматических средствах выражения оценки в свете синтаксических исследований А. А. Шахматова
А. А. Шахматов обратился к синтаксическим исследованиям современного русского языка, как известно, в последний период своей научной деятельности, многие его работы в этом направлении так и остались незавершенными. Тем не менее они сохраняют важность и сегодня. Причиной этого является не только особая тщательность и скрупулезность исследователя в описании грамматических единиц языка, но и необычный, «шахматовский» взгляд на взаимодействие морфологического и синтаксического уровней языка, на функционирование частей речи и их форм, на связь грамматических, прагматических и стилистических параметров отдельных граммем. Рассуждения Шахматова, его тонкие наблюдения предвосхищают многие современные открытия в области прагматического использования отдельных грамматических
единиц, в частности грамматических средств выражения языковой оценки. Поэтому обращение к наследию выдающегося лингвиста является сегодня крайне актуальным. Общее понимание Шахматовым грамматики как структуры, оформляющей речевые намерения говорящего и уточняющей характер его прагматического сигнала, определяет новый ракурс в изучении как морфологии, так и синтаксиса.
Особенно интересной в этом плане представляется работа А. А. Шахматова «Учение о частях речи» (фрагмент его труда «Синтаксис русского языка» [10]), на базе которой написана данная статья.
***
Анализируя работу Шахматова о частях речи, включенную в «Синтаксис русского языка», академик В. В . Виноградов отмечал изменение в традиционном объекте исследования:
«Объем и границы синтаксиса в понимании А. А. Шахматова оказались очень широкими, А. А. Шахматов включил в синтаксис учение о частях речи, относимое им раньше к морфологии» [3: 7].
Исходным положением учения Шахматова о частях речи является следующее: «…катего-рия грамматическая познается в синтаксисе» [10: 29]. Анализ знаменательных и служебных частей речи дается ученым в синтаксическом аспекте, при этом делается акцент не только на разнообразии грамматических форм, широком наборе грамматических категорий, присущих отдельным частям речи, но и на специфике функционирования различных грамматических форм в речи. Кроме того, Шахматов писал не только о функциональных различиях частей речи, но и об их семантическом (семасиологическом) разграничении:
«В предыдущем выяснены синтаксические основания различения частей речи. Но имеются и более глубокие основания для такого различения – основания семасиологические. Различию частей речи соответствует различная природа наших представлений» [10: 36].
Важными для Шахматова являются особенности употребления различных грамматических форм, обусловленные отношением говорящего к содержанию сообщения, его речевыми интенциями, по существу, это те компоненты высказывания, которые современная лингвистика называет прагматическими. Так, ученый отмечает:
«Грамматические значения, совмещающиеся со значениями реальными, можно назвать сопутствующими значениями. Сопутствующие значения могут основываться частью на явлениях, данных в внешнем мире <…>. Частью же сопутствующие значения основываются на субъективном отношении говорящего лица к определяемому им явлению…» [10: 40–41].
Подобный «синтаксический ракурс» рассмотрения морфологических форм и категорий позволяет выявить прагматический аспект использования говорящим собственно грамматических форм. Для обозначения прагматических характеристик высказывания, включающего ту или иную грамматическую форму, Шахматов в некоторых случаях использует термин «аффект» говорящего:
«Уменьшительные суффиксы нередко употребляются для выражения того или иного аффекта, сопровождающего произнесение всей фразы. Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! Гроза, 1» [10: 62]; «Равным образом не получает особого морфологического выражения восклицательное наклонение, при ко- тором говорящий выражает свое утверждение или отрицание в такой форме, которая, отодвигая на задний план содержание сказанного, выдвигает вперед чувство, аффект говорящего» [10: 100].
«Аффект» по Шахматову – это сильные чувства автора высказывания, его эмотивно-оценоч-ное отношение к предмету речи. Если говорить о лингвистических категориях, реализуемых в соответствующих высказываниях, то это экспрессивность, эмотивность и оценочность. Показательно, что термин «аффектив» в отношении слов с оценочным компонентом значения использовала в своих работах Е. М. Вольф, внесшая значительный вклад в изучение языковой оценки [4].
Приводя многочисленные примеры «аффективных» высказываний, Шахматов не говорил прямо о намерениях говорящего передавать адресату сообщения именно оценочный сигнал («отнесись хорошо» или «отнесись плохо»), однако сами примеры наглядно свидетельствуют о наличии языковой оценки, передаваемой той или иной грамматической формой, причем характер оценки обычно поддерживается семантикой лексем. Например, приводимые Шахматовым глаголы с суффиксом - ну (как совершенного вида «однократного подвида», так и несовершенного вида) включают преимущественно отрицательную оценку (часто в переносном значении): стукнуть, пугнуть, кинуть, тронуть, вильнуть, полоснуть, ругнуть, сунуть, крикнуть; но тонуть, тянуть, сохнуть, вянуть, льнуть, киснуть, пухнуть и т. д. [10: 90]. В другом случае глаголы несовершенного вида с приставкой по- и суффиксом -ива , характеризуемые Шахматовым как «определительный подвид несоверш. вида», включают положительные коннотации: «мы только посматриваем, мы только покручиваем свои усы, мы похаживаем и постукиваем каблучками» [10: 89-90].
Самый яркий пример связи грамматики и оценочной семантики – это выделение грамматических категорий, непосредственно связанных с оценкой. Так, Шахматов выделяет у существительного особую категорию – «категорию субъективной оценки»:
«Эта категория обнаруживается не морфологически, как прочие выше рассмотренные категории, а путем словообразовательных суффиксов, дающих основание различать слова со значением увеличительным, уменьшительным, ласкательным, пренебрежительным» [10: 61].
Сходные категории наличествуют у прилагательного и наречия. Интересным представляется наблюдение А. А. Шахматова, когда он вслед за А. А. Потебней писал о специфической «син-таксичности» морфем, выражающейся в их текстовой координации:
«…как отмечено Потебней, уменьшительные и ласкательные суффиксы имен могут влиять на форму согласующихся с ними прилагательных, которые принимают соответствующие уменьшительные или ласкательные формы: маленький кусочек, сыночек, добренькая старушка, уютненькое местечко, беленький платочек, чистенькая рубашечка ; таким образом, эти суффиксы становятся сами синтактическими факторами, что указывает и на их синтактическую природу.
Приведу несколько примеров. Мне на спорщицу-же-нищу, Купить добрую плетищу, Нахрестать ее спинищу. Аблес. Мельн. II, 13; Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища. Кап. д. II» [10: 61].
Подобная интерпретация «синтаксической природы» морфем дала основание В. В. Виноградову критиковать Шахматова за то, что тот, нарушая традиционную субординацию в рассмотрении языковых единиц, «вовлекал» не только морфологию, но и морфемику в синтаксис [3: 12]. Однако в данном случае точка зрения Шахматова представляется интересной и перспективной, поскольку в русском языке субъективно-оценочные уменьшительные и увеличительные формы существительных (диминутивы и аугментативы) образуются достаточно регулярно, они стилистически маркированы как разговорные и просторечные, причем их грамматический контекст является соответствующим (в частности, подобные дериваты функционируют в синтаксических фразеологизирован-ных структурах: « Легко-ли-деньжищи какие. Ib. IV» [10: 61]).
Согласно наблюдениям многих исследователей языковой оценки, морфемы как средство выражения оценочного прагматического сигнала (аффекта) говорящего являются важнейшим ресурсом (прежде всего в формах существительных). Одним из таких ярких средств выступают суффиксы со значением лица. У Шахматова читаем:
«Противоположение слов, означающих лиц муж. и женск. полу, обнаруживается и в различных словообразовательных суффиксах. Так, с суффиксами -арь, -ец, -ин, -ун связываются представления о лицах муж. полу, с суффиксами же -арка, -ица, -иха, -унья представления о лицах женского полу, например: старостиха, учительница, ученица. - И разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющихой. Что делать?» [10: 58].
Если даже в некоторых приведенных исследователем контекстах номинации лиц вполне нейтральны, оценочный потенциал их велик. По нашим наблюдениям, в современном языке используется большое количество оценочных словообразовательных дериватов, включающих суффиксы со значением лица, число их постоянно пополняется. Так, оценочную маркированность и стилистическую окрашенность дериватов создают следующие суффиксы:
-тель (прихлебатель, соглашатель, гонитель); -льник (молчальник, висельник); -ец (лжец, делец, льстец, сорванец, убивец; -ач (рвач, трепач, толкач, ловкач, лихач), -ун (ворчун, молчун, врун, едун, ездун); -ок (недоросток, недоносок, выродок); -аль (враль); -лк(а) (зубрилка, мазилка); -л(а) (ловчила, приставала, поддавала, воротила, зубрила); -ушк(а) (вертушка, болтушка, врушка, резвушка, дурнушка, простушка); -аг(а) (работяга, трудяга, бродяга, доходяга, деляга); -ак(а) (зевака, кривляка, ломака, служака, вояка); -ух(а) (вековуха, потаскуха, стрекотуха, толстуха, грязнуха) и др.
Список приведенных суффиксов является далеко не полным. Чаще всего подобные морфемы эксплицируют отрицательную оценку.
Приведенные примеры демонстрируют тот факт, что суффиксы могут указывать на лицо мужского пола, относиться к лицу женского пола или маркировать существительные общего рода. Употребление существительных с суффиксами субъективной оценки - « печеньки Нуланд » , печалька, ответочка, повесточка - является сегодня признаком «модного» публицистического или сетевого дискурса.
Справедливым представляется заключение Шахматова о том, что наибольшими возможностями для выражении экспрессивного, оценочного отношения говорящего к предмету речи в конкретном высказывании обладает существительное:
«Нижеследующие грамматические категории обнаруживаются в существительных морфологически, синтактически, далее посредством словообразовательных суффиксов и интонации: число, конкретность и абстрактность, единственность и множественность, единичность, считаемость, парность, совокупность, одушевленность и неодушевленность, род, бытие или наличность, увеличительность, уменьшительность, ласка-тельность, пренебрежительность» [10: 44].
Отметим, что многие названные категории существительного (прежде всего, конечно, «ласкательность» и «пренебрежительность») связаны с выражением оценки, и средства ее выражения могут быть «морфологическими, синтаксическими, словообразовательными и интонационными», то есть определяющими прагматическую окраску высказывания.
Весьма проницательным является заключение Шахматова о субстантивации как приеме наделения слов и выражений особой значимостью, при этом многие субстантивированные единицы получают оценочные коннотации. Примеры, при- водимые Шахматовым, наглядно свидетельствуют об этом:
« Это “хорошо” Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому - вот так: хор-шоо. Вешн. воды, XXXV; <.> Осмотритесь: ведь вас на фуфу подымают! Св. Креч. III, 5; <.> На этом “просто дурак” сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Что делать? Пред. I» [10: 65].
Оценочный компонент часто содержит однословное приложение, особенно в стилистически маркированных народно-поэтических словосочетаниях:
«У кого - праздник-ликованье, а у кого горе-го-реванье. Е. Карпов, Зарево; Вон! Змеёныш.., я тебя вскормил от пота-крови. Мещане, IV; <.> Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску! Гроза, V» [10: 66].
Некоторые шахматовские примеры демонстрируют феномен потенциальной оценки, присущей отдельным лексемам. Так, потенциальную положительную оценку включает при абстрагировании значения лексема люди : «... люди давно отпахались, а он все еще почесывается; если не веришь, спроси у людей; люди его научат » [10: 66–67].
Выделяя существительное как часть речи, в наибольшей степени способную передать аффект говорящего, Шахматов отмечает также «аффективный потенциал» глагольных категорий. Так, ученый пишет о том, что в отдельных случаях «сопутствующее значение» категории лица, числа передает оценочный сигнал говорящего:
«Категория 2-го лица в сочувственных обращениях. В обращениях вместо 2-го лица единств. говорящий может употребить формы 1-го лица множ. числа. Здесь, кажется, подражание французскому. Мы плачем? Мы ушиблись? » [10: 74]; «Если говорящий говорит о лице, заслуживающем, по его мнению, особого уважения, выше его поставленного, то в народной речи допускается обнаружение ее в формах множ. числа. Барин еще не приходили. Мамаша чувствуют себя нехорошо » [10: 74].
Примеры Шахматова дают основания для обнаружения положительных коннотаций в формах « усилительных подвидов» несовершенного и совершенного вида:
«Несоверш. вид посредством повторения слова: он сидит себе и сидит: он кричит, кричит, а толку всё нет; он кричать-кричать, также посредством соединения дай, давай, айда, ну, и с инфинитивом: он и плясать, он и ну скакать, он ну просить, он и давай плясать » [10: 90].
В формах наклонения к грамматическим способам выражения прагматики высказыва- ния можно отнести и фразеологизированную синтаксическую структуру предложений:
«Желательное наклонение выражается, во-первых, посредством морфологического сослагательного наклонения: не видели бы этого мои глазоньки, не провалился бы я тут, ушел бы он вовремя, повинился б; <.> попроситься бы к нему, сказать бы ему, не попасть бы вам впросак; также в соединении с если, как, как не, что: о если бы не родиться; как бы мне посмотреть на нее; что бы ему прийти; что бы ему оставить свой адрес » [10: 102–103].
Важным представляется также замечание Шахматова о наличии общего прагматического функционала у разных грамматических форм:
«Категория повелительного наклонения обнаруживается морфологически в спрягаемых формах глагола, но остается не обнаруженною ни при инфинитиве (молчать!) , ни при некоторых других глагольных формах (пошел вон!), ни также при междометии (цыц! стоп!). Как видно из предыдущего, ту или иную интонацию можно признать способом обнаружения грамматической категории» [10: 43].
В развитие этих мыслей Шахматова отметим тот факт, что грамматические признаки слов различных частей речи, несомненно, коррелируют с потенциальной возможностью подобных лексем выражать оценку. Так, морфологическое разнообразие глагола обусловливает наличие целого ряда коннотаций, связанных с определенными грамматическими формами и с теми синтаксическими конструкциями, в которых эти формы выступают . Например, с точки зрения выражения оценки весьма важной является форма императива, поскольку она непосредственно обозначает интенцию говорящего по отношению к адресату сообщения. Некоторые стилистически маркированные слова (разговорные, просторечные, жаргонные) содержат компонент оценки (в подавляющем числе случаев пейоративной) в форме повелительного наклонения: вали, проваливай, отвянь, катись ты, пошел ты. В последнем примере в функции повелительного наклонения используется форма изъявительного наклонения прошедшего времени. В других случаях экспрессивные нечленимые предложения оценочного характера в жаргонной речи включают формы инфинитива (Офигеть!; Офонареть! ) или личные формы настоящего времени ( Я тащусь! ).
Коннотативный потенциал глагольных лексем может быть связан с категорией вида и с отнесенностью слов к лексико-грамматическим разрядам, называемым способами глагольного действия. Возможность употребления глагола в форме только одного вида часто обусловлена наличием семантической общности слов, причем семантика лексемы может быть осложнена оценочным компонентом. Например, соответствующую коннотацию имеют некоторые группы непредельных глаголов несовершенного вида. Так, лексемы, обозначающие эмоциональное отношение, могут включать как мелиоративную оценку (боготворить, благоговеть, обожать, почитать, восхищаться, ценить), так и пейоративную (ненавидеть, презирать, гнушаться, недолюбливать).
Работа А . А . Шахматова о частях речи со держит большое количество чрезвычайно ин тересных наблюдений , демонстрирующих воз можности грамматических форм и категорий участвовать в создании прагматики высказы вания , в передаче эмоционально - оценочных сигналов говорящего . Например , это наблюде ния за особенностями оформления рода суще ствительных , лица , вида и наклонения глаголов , типами междометий . Подобный ракурс рас смотрения грамматических форм и категорий получил последовательное развитие в совре менной лингвистике , в частности в изучении языковой оценки .
Говоря о современном состоянии этой об ласти отечественного языкознания , следует отметить различные ракурсы рассмотрения анализируемого феномена : прежде всего это семантический , когнитивно - прагматический , функционально - грамматический аспекты . Од ним из важных объектов изучения при этом являются грамматические способы передачи оценочного сигнала в речи , соединение грамма тического и семантического факторов в создании оценочных суждений . Этим проблемам посвя щены работы Е . М . Вольф , Н . Д . Арутюновой , Т . В . Маркеловой , Г . А . Золотовой , В . В . Лопа тина , И . И . Просвиркиной и многих других ис следователей [2], [4], [5], [6], [8] и др . В частно сти , О . Н . Касторновой была проанализирована частеречная принадлежность слов , передающих оценочный прагматический сигнал 1. Рассматри вая семантику оценки , Т . В . Маркелова особое внимание уделила именно грамматическим спо собам ее выражения в тексте , в том числе мор фологическим формам и синтаксическим кон - струкциям 2.
Грамматические описания системы языка, появившиеся во второй половине XX века (например, Грамматика-80 [9]), стараются учесть функцию тех или иных грамматических единиц, в связи с чем указывают на возможность некоторых морфем, форм, типов синтаксических конструкций (то есть чисто формальных структур) создавать оценочную прагматику высказывания. В этом плане исследование Шахматова предвос- хитило важное направление в функциональном анализе грамматических единиц языка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
« Учение о частях речи » Шахматова , как и его работы по синтаксису современного русского языка , остались незаконченными . В свое вре мя В . В . Виноградов подверг критике « смеше ние » собственно грамматических и функцио нальных характеристик разных частей речи , приведшее , по его мнению , к неоправданному нарушению общепринятых границ разделов языкознания :
« Стремясь расширить как можно больше объем и задачи синтаксиса , понимая синтаксис как “ ту часть грамматики , которая рассматривает способы обнару жения мышления в слове ”, А . А . Шахматов опустоша ет морфологию » [3: 23].
Однако , переместив акцент с формально - грам матического описания частеречных парадигм на функционально - прагматический аспект рас смотрения грамматических форм и категорий , Шахматов обозначил перспективу исследова ния различных способов передачи чувств и на мерений ( аффекта ) говорящего .
Дальнейшее развитие идей Шахматова о синтаксическом ракурсе рассмотрения частей речи, об «аффективном» потенциале различных грамматических категорий может продвинуть исследование разноуровневых прагматических ресурсов воздействия говорящего на адресатов сообщения. Эта тема имеет в настоящее время не только теоретическое, но и важнейшее практическое значение. Сегодня, в эпоху существования различных дискурсивных практик, в атмосфере тотального воздействия рекламных текстов, в ситуации возрождения пропаганды как социальной практики, особую актуальность приобрело исследование языковых оценочных ресурсов как факторов воздействия на сознание реципиентов и манипуляции сознанием. Подобные ресурсы проще всего ранжировать и описать, используя методы полевой лингвистики. Языковые единицы, которые используются говорящим в процессе передачи адресату прагматических сигналов «отнесись хорошо» или «отнесись плохо», чрезвычайно разнообразны, они образуют широкое функциональное поле оценочности, включающее как лексические, так и грамматические компоненты. Поскольку оценочность как тип значения грамматикализуется все же весьма слабо, основой ее языковой экспликации является лексическая семантика. В центре ядерной зоны поля находятся общеоценочные слова, из которых наиболее значимыми в функциональном отноше- нии являются лексические единицы, способные выступать в функции предиката (наречия-предикативы, существительные, прилагательные: отлично, отменно, плохо, омерзительно, красота, отпад, кринж, прелестный, мерзотный и др.). Состав общеоценочных слов постоянно обновляется, среди них много разговорных, просторечных и сленговых. В ядерной зоне поля располагаются также частнооценочные слова разной частеречной принадлежности (милосердие, гуманность, опустошение, оргия, предатель, целесообразный, вредный, вдохновляюще, с кондачка, созидать, воровать и др.) и фразеологические единицы (на крыльях любви, с огоньком, развесить уши, когда рак на горе свистнет и т. д.). Лексико-фразеологические конституенты поля дополнены единицами других уровней языка.
В ядерной зоне поля находится конституент, включающий морфемные средства выражения оценки, причем суффиксы находятся ближе к ядру поля, чем приставки. В ядерную зону входит также конституент с суперсегментными фонетическими единицами (типы интонационных конструкций ИК-5 и ИК-7). Ближе к периферии поля расположен конституент, объединяющий оценочно маркированные син-таксемы, а также стилистические средства выражения оценки (такие тропы, как сравнение, эпитет, метафора, ирония и др.). Некоторые фонетические и графические средства пере- дачи оценочного отношения говорящего, а также граммемы, которые, по существу, являлись предметом рассмотрения в работе Шахматова, следует отнести к периферии функционального поля оценочности. Отметим, что в русском языке зона отрицательной оценки значительно (почти трехкратно) превышает зону положительной оценки, хотя для конкретных языковых единиц это соотношение может быть различным. Н. Д. Арутюнова писала:
«…аномальные явления представлены несравненно более богато и разнообразно, чем нормативные. Язык склонен скорее обвинять человека, чем подчеркивать его соответствие норме» [2: 70].
Н. А. Лукьянова указывала на почти четырехкратное превосходство лексики с пейоративной коннотацией в разговорном дискурсе [7: 121]. Доминирование единиц, включающих негативную оценку, демонстрируют в основном приведенные в данной статье примеры из работы Шахматова «О частях речи».
Оригинальность научного подхода А. А. Шахматова, его необыкновенное чувство языка, лингвистическая эрудиция и скрупулезность в описании отдельных грамматических категорий и форм дают возможность современным исследователям расширить номенклатуру собственно грамматических средств, которые способны в пределах высказывания передавать оценочный прагматический сигнал говорящего.