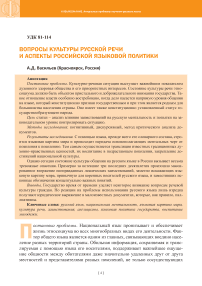Вопросы культуры русской речи и аспекты российской языковой политики
Автор: А.Д. Васильев
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Языкознание. Актуальные проблемы изучения русского языка
Статья в выпуске: 3 (32), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Культурно-речевая ситуация выступает важнейшим показателем духовного здоровья общества и его приоритетных интересов. Состояние культуры речи этносоциума должно быть объектом пристального и доброжелательного внимания государства. Такое отношение власти особенно востребовано, когда дело касается напрямую уровня общения на языке, который конституционно признан государственным и при этом является родным для большинства населения страны. Оно имеет также конституционно установленный статус государствообразующего народа. Цель статьи – анализ влияния заимствований на русскую ментальность и попытки на законодательном уровне контролировать ситуацию. Методы исследования: когнитивный, дискурсивный, метод критического анализа документов. Результаты исследования. С помощью языка, прежде всего его словарного состава, строится языковая картина мира и происходит передача основополагающих ментальных черт от поколения к поколению. Тем самым осуществляется трансляция известных традиционных духовно-нравственных ценностей, их воспитание в подрастающем поколении, закрепление достижений национальной культуры. Однако сегодня состояние культуры общения на русском языке в России вызывает весьма тревожные опасения. Примерно за истекшие три последних десятилетия произошло массированное вторжение неоправданных лексических заимствований, заметно искажающих языковую картину мира, привычную для коренных носителей русского языка, и заместивших исконные обозначения концептуально важных понятий. Выводы. Государство время от времени уделяет некоторое внимание вопросам речевой культуры граждан. Но реакции на проблемы использования русского языка лишь изредка получают юридическое выражение в малоизвестных документах, которые, как правило, паллиативны.
Русский язык, национальная ментальность, языковая картина мира, культура речи, заимствования, англицизмы, языковая политика государства, воспитание молодежи
Короткий адрес: https://sciup.org/144163514
IDR: 144163514 | УДК: 81-114
Текст научной статьи Вопросы культуры русской речи и аспекты российской языковой политики
Постановка проблемы. Национальный язык пронизывает и обеспечивает жизнь этносоциума во всех многообразных видах его деятельности. Фактор общего языка является одним из главных, связывающих воедино население разных территорий страны. Обильная информация, сохраняемая и транслируемая с помощью языка его носителями, поддерживает важнейшее ощущение общности между обитателями даже значительно удаленных друг от друга местностей и представителями разных поколений, не только сосуществующих в одно и то же время, но и разделенных естественным ходом истории. Язык, выступая как средство созидания культуры, является при этом и совершенно неотъемлемой ее частью. Таким образом, национальный язык фактически выполняет функцию фундаментальной духовной скрепы, важность которой для этноса невозможно переоценить.
Для поддержания успешного речевого общения необходима официальная и четкая языковая политика, гармонирующая с другими реализациями политической воли государства, – особенно если оно постоянно декларирует свою суверенность.
Обзор научной литературы . Само понятие «языковая политика» трактуется иногда по-разному. Ср.: « языковая политика – совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве» [Дешериев, 1990, с. 616] – и: « языковая политика представляет собой сознательное воздействие государства на функционирование языка в обществе, находящемся в пределах той или иной государственной или административной территории» [Герд, 1995, с. 6].
Языковая политика ведется всегда и везде, и «даже если ее нет в целенаправленном виде, стихийно она как-то проводится» [Алпатов, 2003, с. 26]. Иначе говоря, для операций в сфере регламентации речевого общения вовсе не обязательно наличие нормоустанавливающих документов1.
Кроме того, эта политика неизменно основывается на неких идеологических принципах, пусть и «не обязательно осознанно» [Алпатов, 2003, с. 20], в том числе и тогда, когда «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (Конституция РФ) – ср., однако, эрзац-заменитель идеологии в виде пакета традиционных духовно-нравственных ценностей .
Между тем любому квалифицированному лингвисту хорошо известно: «Всякий язык выполняет ту или иную идеологическую функцию» [Герд, 2009, с. 6]; слово каждого национального языка идеологично – такова природа лексического значения.
Наряду с этим идеология пропитывает, по существу, все сферы бытования человека и общества. Она совсем не обязательно должна формализоваться в лозунгах, декретах и т.п. Ведь «идеология <…> сказывается во всем. И ее нельзя уловить ни в чем» [Зиновьев, 1990, 1, с. 226].
Среди функций языка чрезвычайно редко называют функцию обеспечения и сохранения национальных (этнических, этносоциальных) ментальных кодов. « Мент альность – это миро созерцание в категориях и ф о р м ах р од н о г о я з ы к а , в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [Колесов, 2004, с. 15]. Язык, прежде всего его словарный состав, консервирует с предполагаемой реализацией в настоящий момент или в перспективе некие долговременно устойчивые этноментальные черты носителей данного
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
языка и служит регулятором их поведения. Именно лексика фиксирует участки аксиологической шкалы – от абсолютно ‘хорошего’ до безусловно ‘плохого’, разграничивая ‘свое’ и ‘чужое’. Именно лексика формирует языковую картину мира: выраженную словами совокупность знаний, приобретенных человеком в процессе освоения окружающего мира, – и, конечно, понимания самого себя.
Если же заполонить повседневную речь чужеязычными заимствованиями (синхронно – и элементами чуждой культуры), то национальная картина мира неизбежно трансформируется, и чем большее количество заимствованных слов находится в активном обороте, тем радикальнее перекраивается мировидение по иноземным лекалам. Это происходит совсем не в интересах большинства коренного населения (ср. истории колоний, в которых насаждались языки метрополий). А «момент заимствования вполне определенно оказывается моментом утраты национального концепта, причем обедняется русская ментальность и оскопляется ментальный ряд» [Колесов, 2004, с. 122].
Результаты исследования . Бурный и мутный приток англицизмов в русскую лексику, сопровождавшийся псевдонаучными измышлениями о высочайших достоинствах английского языка и, соответственно, глубокой ущербности русского, широко тиражировался российскими СМИ2.
Конечно, эти пропагандистские процессы не были случайными: ведь «всегда есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи “властителей дум” данной эпохи» [Бахтин, 1986, с. 283]. Таковыми оказались, по крайней мере, два известных речения. Первое – пафосный призыв первого российского президента, произнесенный в американском конгрессе: «God, bless America!» (17.06.1992); второе принадлежит его преемнику, несколько запоздало признавшему наконец публично: «Мы считали, что мы свои, “буржуинские”»3. Таким образом были выражены светлые чаяния российско-компрадорской «элиты».
Начался многолетний период подобострастия перед Западом: эпоха противостояния якобы закончилась, вспыхнула демонстративная дружба, российские энергоносители благосклонно принимались странами НАТО и т.п.4 В свою очередь, языковая картина мира обитателей России, особенно их молодого поколения, была решительно изменена с помощью массированного внедрения в речевую практику англоязычной лексики.
Процессы заимствования с точки зрения лингвистической науки вполне объективны. Как правило, они имеют социальную базу5, в которой находят своих инициаторов и трансляторов. Современные явления в этой сфере отличаются определенным своеобразием: их насаждение с самого начала российских великих реформ было пропагандистски обусловлено, по крайней мере, двумя причинами, впрочем, взаимосвязанными.
Во-первых, заимствования не обладают внутренней формой6, внятной носителям автохтонного языка: их присутствие разрушает семантическую непрерывность словаря (Ю.Н. Караулов), то есть автоматически лишает языковую картину мира ее цельности и непротиворечивости (пусть даже относительной) и делает ее дискретной. Вследствие этого атомизируется этносоциум.3
Во-вторых, обработка массового сознания заведомо непонятными словами («бомбардировка, подобная метеоритному дождю» [Лотман, 1996, с. 22]) делает общество податливым и/или безучастным к обозначаемым ими нововведениям, вряд ли для него благотворным [Ильс, Янченко, 2007].
Политические катаклизмы нередко получают выражение и в межъязыковых контактах/конфликтах. Так, свифтовские лилипуты-триумфаторы принуждают побежденных ими блефусканцев вести переговоры о капитуляции на лилипутском языке. Известно: «принять язык противника – значит незаметно для себя стать его пленником» [Кара-Мурза, 2002, с. 425]. – «…Заставить информационную систему [то есть человека или социум] “с м отр е ть н а м ир чужими глазами”, глазами той информационной системы, на которую данная система должна стать похожей, то есть гл аз ам и э т ал о н а» [Расторгуев, 2003, с. 136] – это и есть важнейший результат информационно-психологической войны.
Многочисленные общеизвестные факты сегодняшней российской речевой коммуникации дают основания утверждать, что вследствие чрезмерного насыщения англоязычными лексическими элементами возникает некое подобие псевдорусской смеси – новоявленного пиджина (см. [Бондалетов, 1987, с. 58]).
Массированные атаки именно на русский язык объясняются тем, что он является языком государствообразующего народа. Справедливы суждения: «Язык – единственная сила, которая еще осталась у нас как возможность развития культуры» [Колесов, 1999, с. 226] – и: «Язык снова выступает как знак, как символ7 и знамя борьб ы за спасение своего народа» [Герд, 2009, с. 2].4
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Но язык – еще и средство передачи от поколения к поколению его коренных носителей своеобразно сакральных знаний: словесных обозначений национально-ментальных концептов, то есть той суммы информации, которая и определяет национальную самобытность и естественные достоинства собственно народа (а не населения ). Язык является и орудием воспитания: «практически все же удается желанные [при воспитании] идеалы более или менее точно охватить языковыми выражениями» [Комлев, 2003, с. 174]. Ведь «основной принцип воспитания – это формирование творчески ориентированного гражданина своего Отечества» [Колесов, 1999, с. 138]; то есть подготовка полноценного тв ор ц а-с озид ателя , а вовсе не «квалифицированного потребителя» (А. Фурсенко). Понятно, что макароническая речь отнюдь не помогает становлению патриотизма, который вдруг оказался чрезвычайно востребованным государством после февраля 2022 г.8
Однако насколько возможно еще исправить российскую речекоммуникативную ситуацию хотя бы в отношении словоупотребления, сказать довольно затруднительно. Результаты недавних исследований говорят о том, что в речи групповой языковой личности студенчества «новейшая ксенолексика, представленная англо-американской составляющей, весьма значительна. Речь представленной социальной группы состоит из комбинации русских и англо-американских слов и выражений. Эти явления свидетельствуют: 1) о космополитичности студенчества <…>, ориентации на западноевропейскую культуру; 2) о приоритете владения английским языком по отношению к другим языкам»9, – отмечает исследователь Л.С. Савилова10.
Конечно, было бы несправедливо утверждать, что всевидящее государство совсем не обращает внимание на речевое поведение своих подданных. После 1991 г. был принят ряд законов о языке11.5Был учрежден Совет по русскому языку, правда, ставший известным лишь по телетрансляции одного из его заседаний [Васильев, 2021]. Затем по непонятным публике причинам вместо него возник другой орган.
Название новоучрежденного Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России семантически предельно прозрачно: союз и указывает, что русский более не является одним из языков Российской Федерации12. Весьма пестрый, как и его предшественника, персональный состав этого органа, включающего в том числе широкий диапазон администраторов – от директоров музеев писателей до никому неведомых предводителей многодетных семей и выпускниц иняза13 – и актеров под председательством театральной критикессы, готовит эпохальные лингвополитические свершения. В частности, предполагается сотворение Основ государственной языковой политики, внесение изменений в закон «О государственном языке Российской Федерации»14.
Видимо, для придания усилиям совета дополнительной энергии в его заседании 5 июня 2025 г. принял участие президент, в частности, посетовавший на «кашу из латиницы и других символов» (газета.ru). Конечно, это совершенно верное замечание. Но что будет предпринято р е ал ь н о в целях исключения из языковой картины мира «уважаемых россиян» тех избыточных экзогенных элементов, которые уже успели в ней укрепиться, – пока совершенно непонятно.
Тем более что проблема не ограничивается лишь засильем псевдопрестиж-ной латиницы. Чуть ли не любое массовое мероприятие в России именуется по-английски; почти всякое предприятие, заведомо не имеющее международных связей, называется по-английски либо с использованием англоязычных компонентов [Васильев, 2020, с. 171–179]; в широком речевом общении укоренились бук-кроссинг , избинг и маминг , а также мастхэв и мастрид и т.д. и т.п. Вероятно, президенту еще не раз придется участвовать в заседаниях совета по реализации его собственных предложений. Ведь сегодняшняя обыденная россиянская речь все более уподобляется описанной ранее речи русских американцев образца 1925 г., которые называли «трамвай – стриткарой, угол – корнером, квартал – блоком, квартиранта – бордером, билет – тикетом»15.6
Последним зримым свидетельством государственного интереса к проблемам языковой политики стало внесение изменений в некоторые акты РФ, утвержденные президентом 24.04.2025 (№ 168-ФЗ) и активно одобренные в СМИ. Но ничего направленного на какие-то радикальные изменения культурно-речевой ситуации здесь нет. Более того, пропагандистская невнятица рискует быть умноженной за счет фигурирующего в документе мифогена общероссийская культурная идентичность , семантически совершенно неопределенного, но, видимо, гармонирующего с запущенным ранее мифогеном общероссийский патриотизм16 .
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Не очень понятно, как эти два политтехнологических изобретения будут сочетаться с фантомным русским миром [Васильев, 2024, с. 194–196]. Таким образом, пока что результатом усилий в рассматриваемой области становится наращиваемая эклектичность малоубедительной пропаганды.
Выводы. Некоторые особенности российской культурно-речевой ситуации позволяют говорить о том, что русский язык, перенасыщенный лексическими англицизмами, превращается в разновидность пиджина, языка-мутанта, гибридный артефакт. В языковом плане суверенитет РФ может быть взят под сомнение. Острота проблемы подчеркивается тем серьезным обстоятельством, что наплыв заимствованных слов ведет к деформации языковой картины мира в интересах зарубежных «партнеров»-распорядителей и утрате национальной ментальности, которой у «россиян», в отличие от собственно русских, нет и быть не может. В конечном счете это исчезновение государствообразующего народа: понятно, что́ в таком случае произойдет с самим государством (надо учитывать и демографические реалии – тоже следствие послесоветских социально-экономических преобразований). Спорадические попытки власти реагировать на очевидные тенденции и их промежуточные итоги воплощаются иногда в документах паллиативного характера, поэтому затруднительно считать российскую языковую политику осмысленной и благотворной для большинства населения.
P.S. Текст этой статьи был уже готов к публикации, когда появился указ № 474 «Об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации». Конечно, документ заслуживает глубокого анализа. Выскажем здесь лишь наиболее общее впечатление от него. С одной стороны, в данном указе есть много логичных положений; с другой – имеются пункты, формулировки которых либо недостаточно продуманы, либо явно нуждаются в более тщательном и недвусмысленном словесном выражении.