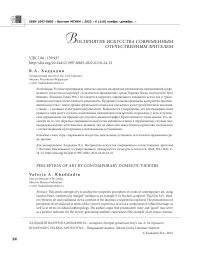Восприятие искусства современным отечественным зрителем
Автор: Хаддадин Валерия Адольфовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 6 (110), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка анализа восприятия реципиентом произведений современного искусства на примере «эстетически заряженной» среды Гордона Паска (скульптура Урса Фишера «Большая Глина №4»). Исследуется коррелят современного западного искусства и традиционных взглядов отечественного реципиента. Проводится анализ феномена восприятия произведений искусства с точки зрения зрительского опыта как слагаемого культурологического наследия, а также с позиции культурной антропологии. Выдвигается утверждение, что постмодернистская ирония и игра могут служить позитивным индикатором для зрителя, порождать у него эстетические переживания (на примере арт хаусного кинематографа). Представляется точка зрения, что, несмотря на то, что образцы современного искусства западного извода в определенных случаях подтверждены научно эстетическим знанием, тем не менее они недостаточно органично соотносятся с отечественными культурными и ментальными установками.
Игра, современное искусство, ментальные установки
Короткий адрес: https://sciup.org/144162493
IDR: 144162493 | УДК: 7.06 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-6110-24-32
Текст научной статьи Восприятие искусства современным отечественным зрителем
Для более пристального рассмотрения расхождений между сложившимися в эстетике понятиями и актуальным художественным опытом мы обратимся к эстетической категории игра ( курсив авт. ). Эксплицитная эстетика чаще всего обращается к устоявшимся категориям прекрасного, возвышенного, безобразного и т. д. В данной статье мы рассмотрим эстетическую категорию игра и обратимся к работам Урса Фишера (в частности, к широко обсуждаемой скульптуре «Большая глина № 4») в разрезе обозначенной эстетической категории и с точки зрения культурной антропологии.
По мысли И. П. Никитиной, традиционные категории «прекрасное», «возвышенное» и т. д. являются не категориями, а лишь эстетическими качествами . «Современная эстетика вместо строгого понятия “эстетическая категория” все чаще использует понятие более широкое – эстетического качества , или эстетического свойства» (курсив Никитиной И. П.). Такие категории, как «красивое», «безобразное», «трагическое» и иные, она относит к частным, хотя и важным, случаям эстетических качеств [6, c. 107].
Созвучно данному утверждению привилегированная роль искусства постмодернизма заключается в том, что оно самостоятельно создает знаковую систему, «культурные эмблемы». При этом искусство играет в игры с действительностью , симулирует, пародирует, заменяет ее [5, c. 62] Таким образом, игра – эстетическая категория, закрепленная в современной отечественной академической философской науке [1, c. 556], но которой при этом уделяется мало внимания при оценке произведений современного искусства.
Система имплицитной эстетики использует традиционный подход в анализе современного художественного опыта, однако в ней можно обнаружить приемы, позволяющие преодолеть возникшее в наше время противоречие (например, апелляция к вербальномедитативным методам: эссе, поиск концептуальных принадлежностей, открытая ирония и т. д.). Игра , являющаяся одним из древнейших, сакральных способов эстетической деятельности, остается актуальной, более того, реально востребованной в искусстве, особенно в современный период.
Игра всегда занимала немаловажное место в модусе человеческого существования. Фридрих Шиллер, автор выражения «красота спасет мир», которое большинство из нас знает из произведений Федора Михайловича Достоевского, за полвека до него, оттолкнувшись от эстетической категории прекрасного, придал ей новый оттенок: красота является «объектом побуждения к игре»; «…человек должен только играть красотою, и только красотою одною он должен играть…»; «человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» [7, c. 243].
Отсутствие жесткой формулировки, окончательно определяющей категорию игра в эстетике, тем не менее, не дает усомниться в том, что она способна взывать к серьезным, основополагающим жизненным ценностям. Игра остается той сферой, в которой человек способен абстрагироваться от действительности, от гнета унизительных ситуаций, навязываемых ценностей и моральных ограничений, тем самым возвращая человеку чувство удовлетворения. В зависимости от социокультур- ной структуры общества, а также – области применения игры, ее архитектоника будет разниться. Анализируя современное искусство, которое обременено интертекстуальной подоплекой, центонностью, использованием более ранних наработок, приемов и т. д., опора на игру становится оправданной и предсказуемой (поскольку формы искусства усложнены и далеки от привычного восприятия посредством дуального посыла форма-содержание). Когнитивное зрительское восприятие образцов современного искусства требует определенной степени «насмотренности», социальной и интеллектуальной зрелости, поскольку сами произведения зачастую не отображают прямой посыл художника, автора, а несут в своем основании симулякр (идентификацию с жизненной правдой), о котором мы сказали выше. Как следствие – игра становится актуальной на различных уровнях художественноэстетической реализации. От реципиента, помимо определенной настроенности и на-смотренности, требуется еще и возможность творческой интерпретации, обнаружение и осмысление акцентов, расставленных художником в момент воплощения идеи, следование его авторскому концепту. Это становится особенно важным в период, когда формообразующие тенденции современного искусства принимают глубоко различные тенденции, то есть искусство перестает быть искусством в классическом его понимании и само называет себя арт-практикой, арт-производством и т. д. Исходя из требований современности, искусство вынуждено подстраиваться под реалии, продиктованные запросом времени, коммерциализироваться. На отечественную зрительскую аудиторию, воспитанную на классических образцах искусства, настроенную на созерцание законченных образов, наступает искусство, рассчитанное на клиповость мышления и восприятия. Поэтому оно воспринимается отечественным реципиентом тяжелее, поскольку не ориентирует его на возвышенность, духовную реальность, не соответствует его устоявшимся ожиданиям. Таким образом, мы видим, что проблема восприятия реципиентом образцов современного искусства лежит в междисциплинарной области (как мы знаем, уже в ХХ веке определение игры Й. Хейзинга было культурологическим, Канта и Платона – онтологическим и т. д.).
Сложно дать однозначную оценку культурному, назовем это так, производству, не учитывая предыдущий временной период, предпосылки развития, каноны, ментальные предпочтения, историческую ситуацию и прочее. Философские идеи, являющиеся реальным отображением развития человеческой мысли, также имеют привязку к месту и историческим парадигмам, которые они прошли, которые были «прожиты» и доказаны временем в данном обществе. Любое социокультурное единение одно и то же произведение искусства будет рассматривать под разным углом зрения, применять к оценке художественного произведения различные художественно-эстетические категории.
Если говорить об особенностях когнитивного зрительского восприятия, оно также неразрывно связано с местом, временем, ареалом, ментальностью. Взглянем на реципиента с точки зрения рубежа постструктурной антропологии, пересекающейся с философией искусства и культурной антропологией в кросс-дисциплинарном поле: «Культуры <…> отличаются тем, как именно они определяют, что относится к зоне деятельности агентов, то есть к миру “сконструированного”, и что относится (поскольку оно сконструировано как относящееся) к миру “данного”, то есть несконструированного» [4, c. 21].
Критерии оценки произведения искусства для людей, являющихся носителями разных культур, будут разными, как и отношение реципиента к значимости самого произведения искусства. Для одного это будет тотемное, сакральное творение, для другого – любопытный образец примитивного творчества, для третьего – не стоящее осмысления и траты времени, лишенный художественной коннотации предмет.
Анализируя заявленную проблематику, можно предоложить, что для массовой оте- чественной аудитории реакция на западное современное искусство будет иметь определенную окраску. И следуя данному предположению, полагаем, например, что скульптура «Большая глина № 4» Урса Фишера, установленная на набережной Москвы-реки, на площади возле нового арт-пространства ГЭС-2, отечественным массовым зрителем будет оценена соответственно. Скульптура представляет собой 13-ти метровую «пирамиду» серого цвета, стоящую на постаменте и буквально нависающую над ступенями, спускающимися к реке. Сегменты пирамиды – многократно увеличенные копии кусков глины, сформированные руками человека (автора) и склеенные в возвышающуюся, грубо слепленную кучу. В одном ландшафтном пространстве с «Большой Глиной № 4» расположен Храм Христа Спасителя, выше по течению реки находится памятник Петру Первому,– культурные объекты с глубоким сакральным и историческим значением. Данное соседство неуместно хотя бы с точки зрения гомогенности художественного ландшафта и рождает дополнительные негативные ассоциации. Раблезианское остроумие, присущее отечественному реципиенту, вкупе со смущением, вызывает у него смех и дальнейшее отторжение, поскольку форма данного арт-объекта рождает ироничные ассоциации, а значит – реакцию, далекую от той, которую, вероятно, ожидал западный художник. Картезианская сдержанность и фундаментальный традиционализм русской ментальности, стремящейся к оценке произведения искусства с классической дуалистической позиции «форма – содержание» и апеллирующей к классическому осмыслению произведения в рамках логико-семантической прозрачности, не тяготеет к дифференциации «сконструированного».
Поскольку культурно-антропологическая принадлежность реципиента является фактором, влияющим на восприятие (а также – для более явного обнаружения игрового аспекта), направим вектор нашего исследования на кинематограф, как на ещё одно пространственно-временное искусство, сред- ство аудиовизуального эстетического выражения. Ни для кого не секрет, что в мощном механизме индустрии кинопроизводства арт-хаус менее востребован зрителем, чем массовый поп-продукт, однако в вопросах, касающихся contemporary art (совокупности арт-практик), данный жанр становится незаменимым. Обратимся к документальному фильму, а конкретно – к документальному фильму анонимного английского уличного арт-практика, социально-политического активиста, ставшего легендой, Бэнкси,– «Выход через сувенирную лавку». Данная лента дает нам возможность говорить о том, что эстетическое пространство игрового канона может быть не связано с сакральными, религиозными или метафизическими институтами, становясь профанацией (как в случае с творчеством героя фильма «Выход через сувенирную лавку», о чем говорит и сам Бэнкси). Герой фильма, некто Mr. Brainwash, симулирует арт-деятель-ность, то есть без какого-либо образования и серьезного опыта занимается подражанием видным художникам, практикующим институционально, прикрывается знакомством с некоторыми из них для создания выгодной для своего «арт-творчества» шумихи. Однако подобного рода симуляция создает искусственное пространство, которое, в свою очередь, служит позитивным индикатором для зрителя, может порождать переживания восторга, благорасположенности, искренности, то есть те же чувства, к которым взывает и истинное искусство. Данная иллюстрация позволяет нам предположить, что в общем культурном процессе вполне легитимно существует чужеродное пространство, являющееся стилизацией, насмешкой над укорененными в науке отношениями субъекта и посредника.
В настоящее время провести решительное разграничение между настоящим искусством и насмешкой над ним может наука. Институциональная принадлежность художника к миру искусства, помимо наличия способностей и стремлений, должна подкрепляться академическими знаниями в своей сфере. Художнику необходимо быть знакомым с луч- шими образцами художественного процесса, владеть теорией, практикой и художественнокультурологическими знаниями. Глубоко изучить направления, стили, образцы мирового культурного наследия, методы их создания. Природный дар, способности, талант и стремления должны опираться на всё вышеперечисленное. Документальный пример, к которому мы обратились, а именно деятельность Тьерри Гетта, или Mr. Brainwash, уличного художника, является примером того, как функционирует постмодернистская ирония, превращаясь в prank, розыгрыш в крупных масштабах.
Работа Вальтера Беньямина о функционировании произведения искусства и его ауры («Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»), а также концепция Маршала Маклюэна («Понимание медиа: внешние расширения человека») о существовании медиа, являющихся проводниками между всем и всем (в нашем случае – между произведением современного искусства и реципиентом), являются серьезным теоретическим основанием, чтобы обратить особое внимание на термин «эстетически заряженная среда» ученого и художника Гордона Паска [10, c. 77].
Антропоцентризм, к которому тяготеют философские теории, начиная с парадигмы модерна, после картезианского поворота, и репрезентация (первичная и вторичная, существующая как в оригинале, так и в реплике того или иного произведения искусства, и далее в симулякре), являются важными векторами в современной культуре и искусстве. Человек, полагая себя единственным хозяином здесь, пытаясь выйти за рамки метафизического и миметического производства культуры, все-таки не добивается успеха в окончательном достижении истины. Ни прагматическая аналитическая философия, ни попытки отойти от мифологических, сакральных, игровых оснований при воплощении замысла в произведении искусства не являются релевантными в диалоге художник – реципиент. Отходя от классической диалектики противопоставления, эстетика применяет процессуальные способы существования, рассматривая произведения искусства в лоне хайдеггеровской онтологии, а именно – в протяженности во времени, в его Dasein. В этом случае принцип «эстетически заряженной среды» гармонирует с игровой сущностью современного искусства.
Гордон Паск говорит об эстетически заряженной среде, обращаясь, в первую очередь, к кибернетической пластике (кибернетической скульптуре), но удачно сформулированный Паском принцип возможно рассматривать для любого вида искусства (“any competent work of art is an aesthetically potent environment”, Gorgon Pask ) как взаимодействие «в моменте» проводника и реципиента, поскольку рефлексия, реакция последнего – неизбежный результат взаимодействия. В особенности применение этого принципа актуально в том случае, когда мы обращаемся к интертекстуальному произведению современного искусства, форма и содержание которого находятся в дисгармонии, где текстовая подоплека будет превалировать над пластическим, визуальным воплощением, тем самым проявляя игровой элемент произведения. Элемент, в большинстве своем не считываемый зрителем.
С одной стороны, будучи сакрально укорененным (в воле автора, его творческом духовном поиске), метафизически оправданным («онтическое» Хайдеггера), современное искусство предстает перед нами одномоментным, открывающим свою сущность в «вот-бытии», технически (курсив авт.) зафиксированным, не имеющим пролонгированного пространственного наличия (начиная от видео-арта, поп- и стрит- арта, заканчивая фиксацией на носитель актов акционизма и прочее). Или, с другой стороны, современное искусство масштабно превышает рамки традиционных классических произведений (мы не говорим сейчас об архитектурных произведениях искусства, например). Таким образом, мы можем говорить о произведении искусства не только как об объекте, но как об «эстетически заряженной среде».
Теперь дадим определение концепции творчества Урса Фишера, обратившись к соб-
ственной характеристике Фишера о «…сопо-ставлении несопоставимого»: «Любая проблема сгодится, потому что она всегда стоит в центре твоего существования, разве нет? Такой стопор» [3, c.1]
Мы полагаем, что в формулировке Фишера лежит игровой подход, в классических культурологических определениях Хейзинга (место, время, условие), а также важная аксиома концепции Хайдеггера, которая говорит о том, что онтическое проявление сущности, бытийность человека в моменте не схватывается как предмет (курсив авт.) познания, только как одномоментное «раскрытие» бытия. Человек, живущий заботой, в аутентичном, или неаутентичном Dasein (в нашем случае, аутентичном, что определено стремлением художника познать и зафиксировать явления мира через творчество), пытается открыть свою субъективность посредством создания абстрактного произведения искусства, стараясь выразить проблему экзистенции путем бытийного конструирования. Это попытка физического воплощения замысла в логически читаемые формы, попытка материализовать эстетически-чувственное, эфемерное. Дать расшифровку смысловой нагрузки произведений искусства, в основе создания которых лежит призрачная, дореф-лексивная цель сконструировать, воплотить в реальный объект собственную интенцию (не предметную, но понятийную, проще говоря, чувство) является утопической с точки зрения привычных логико-семантических связей. Глубина восприятия данных произведений, лишенных классических, символических привязок для отечественного реципиента, будет связана, в первую очередь, с культурноантропологическими особенностями (о чем мы говорили выше).
Попытка западного художника, в нашем случае Фишера, постичь, «поймать» сущность человеческого бытия «до» его воплощения в материальном «высказывании», оправданная культурологическими основами западного общества, слабо отзывается в нашем соотечественнике и диссонирует с формами стро- гой, метафизической логики, воспитанной на тяготении к красоте форм канона Шиллера-Достоевского.
Это не хорошо или плохо, это культурная, ментальная данность. Но и «стопор», «проблема», с точки зрения самого Урса Фишера. Экспериментальная попытка проявления не проговариваемых, но неизменно присутствующих сакральных, онтических оснований, материальное фиксирование его стремлений, игра одних с другими на глазах у зрителя.
Для дальнейшей иллюстрации наших рассуждений обратим более пристальное внимание на работы Фишера (включая скульптуру «Большая глина № 4») с точки зрения про-ектности, временности и процессуальности (наиболее яркий пример, демонстрирующий эту мысль, проект Урса Фишера «What if the phone rings», 2004) [9, c.44].
Работы Урса Фишера интересны, в первую очередь, своей незавершенностью. Об этом есть детальное исследование Д. В. Галкина, профессора, доктора философских наук Томского государственного университета. В частности, он говорит: «Такое искусство процессуально ( Урс Фишер, авт .) и генерирует emergent behavior в реальном времени, вовлекая зрителя <…> в концептуально художественные проекты в области art&science, создают междисциплинарный контекст науки и искусства. Прочтение таких работ требует интертекстуального движения к научному содержанию и рефлексии по поводу научного знания в современной культуре, выхода за рамки чистой поэтики» [2, c. 553].
Произведение искусства, лишенное окончательной, завершенной формы, представляет собой прообраз вероятного шедевра, который каждый зритель волен сам себе нарисовать в воображении, если готов дорисовывать деконструированный объект. Автор, таким образом, вовлекает зрителя в сотворчество, что само по себе замечательно, при том, что большинство зрителей, к сожалению, склонно к потреблению (читай, просто к получению удовольствия), а не к напряженной работе мысли, которую и пробуждает истинное произведение искусства. Зритель зачастую не готов вступить в игровое поле творчества, мифологический пространственновременной континуум художественного произведения, он жаждет зрелища, наслаждений одномоментно и не склонен к напряжению, философскому осмыслению произведений современного искусства. Гораздо проще, отталкиваясь от увиденной формы, сделать ироничный вывод на уровне первого визуального среза и осудить непонятное. В этой связи невозможно не вспомнить Ортега-и-Гассета с утверждением о восприятии современного искусства (на тот момент – модерна, авт.) только элитами, где элита определяется не финансово-экономическими факторами, а является прослойкой общества, открытой к новому; и неприятия его массами, с другой стороны. Время подтвердило устойчивость данной тенденции при переходе к искусству постмодернизма.
Существование произведения искусства в коротком интервале времени дает нам возможность лишний раз подчеркнуть его процессуальное функционирование, а также – закрывает гештальт одного из болезненных вопросов о фетишизации, капитализации произведений искусства (они не подлежат капитализации, поскольку временны). Многочисленные претензии к произведениям современного искусства лежат в плоскости их сомнительной ценности, чему способствует ложная институализация, которая дает право произведению быть признанным, и которая зачастую зиждется на нечистоплотности агентов и галерейщиков. Работы Урса Фишера являются конечными во времени (тому служат материалы, из которых составлены композиции: воск, фрукты, временно установленные работы, как в нашем случае – скульптура «Большая глина № 4» и т. д.), что лишает их пролонгированной предметности, и «эстетически заряженное пространство» оканчивается вместе с исчезновением самого произведения искусства. То же самое мы можем сказать и об акционизме, перформансе, например. Материальное фиксирование данных произ- ведений – это фото- и/или киносъемки, которые лишают сами произведения предметной принадлежности: они существуют лишь в репрезентации презентуемого. Тем самым сам предмет лишается ауры и какой-либо ощутимой стоимости и заинтересованности в нем коллекционеров и ценителей. Примером, демонстрирующим это утверждение, является документальный фильм «Марина Абрамович: в присутствии художника» (2012, режиссер Меттью Эйкерс). Фильм фиксирует грандиозный проект Марины Абрамович, в рамках которого Марина оставалась неподвижной на протяжении нескольких недель (в течение дня) для обмена взглядами с посетителями перформанса. Проект имел огромный успех, но остался в памяти лишь на пленке. Подводя итог, мы можем сказать, что произведения Урса Фишера, в частности, скульптура «Большая глина № 4», временно установленная в одном из новейших арт-пространств столицы России, нами характеризуется как чисто эстетический поиск сакральных смыслов в моменте, эстетическая игра, способ выразить интенцию художника неклассическим методом.
В ходе нашего анализа мы не опираемся на критику, верную спутницу эстетического самоопределения, его инструментальный функционал. Сам Урс Фишер говорит, что «нет больше кодов для считывания искусства, отсюда и непонимание». С одной стороны, данное высказывание подтверждает постулат «конца искусства», выдвинутый аналитическим философом Артуром Данто [8, c. 242], а с другой стороны, противоречит его же утверждению, что каждый художник является сам себе философом. «Коды» , о которых говорит Урс Фишер, в академических науках (эстетике, искусствоведении, например) существовали всегда, несмотря на чувственный аппарат, играющий главенствующую роль при рассмотрении произведений искусства.
В заключении предлагаем авторское суждение, а именно: даже самое спорное произведение современного искусства, которое наука (курсив авт.) может соотнести с эсте-
тическими, искусствоведческими, культурологическими академическими положениями, будет являться искусством. В первую очередь это связано с тем, что если в основу даже самого непривычного для зрительской аудитории эстетического контента можно подвести научные обоснования, будь то крепкие метафизически-трансцендентальные опоры, антропологически-языковые или культурологические, то данное произведение, так или иначе, вернет нас в лоно сакральных принадлежностей и мотиваций. Образцы современного искусства, не находящиеся в привычном логико-семантическом поле, не связанные с привычными категориями прекрасного, возвышенного или даже безобразного, тем не менее, находящиеся в предметных рамках вышеперечисленных наук, могут быть оценены с позиции эстетической категории – игры.