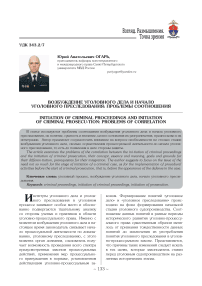Возбуждение уголовного дела и начало уголовного преследования: проблемы соотношения
Автор: Огарь Ю.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 4 (45), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются проблемы соотношения возбуждения уголовного дела и начала уголовного преследования, их понятие, сущность и значение, цели и основания их разграничения, предпосылки к их интеграции. Автор предлагает сосредоточить внимание на вопросе необходимости не столько стадии возбуждения уголовного дела, сколько осуществления процессуальной деятельности до начала уголовного преследования, то есть до появления в деле стороны защиты.
Уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, начало уголовного преследования
Короткий адрес: https://sciup.org/140290407
IDR: 140290407 | УДК: 343.2/7
Текст научной статьи Возбуждение уголовного дела и начало уголовного преследования: проблемы соотношения
И нституты уголовного дела и уголовного преследования в уголовном процессе занимают особое место и обоснованно подвергаются тщательному анализу со стороны ученых и практиков в области уголовно-процессуального права. Именно с моментом возбуждения уголовного дела в настоящее время законодатель связывает начало процессуальной деятельности по доказыванию, уголовному преследованию, с этого момента орган дознания, следователь получает возможность проведения всего спектра предусмотренных законом процессуальных действий, применения мер процессуального принуждения в порядке, установленном действующим уголовно-процессуальным за- коном. Формирование понятий «уголовное дело» и «уголовное преследование» происходило на фоне формирования начальной стадии уголовного судопроизводства. Соотношение данных понятий в разные периоды исторического развития уголовно-процессуального права существенным образом менялось от признания тождественности данных понятий до исключения из употребления понятия уголовного преследования в уголовно-процессуальном законе. Представляется, что причины таких изменений следует искать в тех целях, которые законодатель ставил перед уголовным судопроизводством на различных исторических этапах.
Составители Устава уголовного судопроизводства 1864 г. в пояснительной записке к нему определили цель уголовного процесса как обнаружение материальной истины и наказание действительно виновного в совершении преступления или проступка [5, с. 43 ].
Исходя из этого, принятие Устава уголовного судопроизводства действительно представляется большим достижением в деле построения уголовного процесса не как карающего государственного органа, а как достаточно «деликатного» инструмента, позволяющего государству в лице уполномоченных органов восстановить социальную справедливость. В качестве недостатка можно выделить тот факт, что составители никаким образом не указали на необходимость восстановления нарушенного права потерпевшего от преступления лица, ограничившись лишь необходимостью установления действительных обстоятельств совершенного деяния и действительной виновности лица в совершенном преступлении, однако данный пробел требует рассмотрения в рамках отдельного исследования.
УПК РСФСР 1922 г., УПК РСФСР 1923 г., равно как и Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных республик 1924 г., вовсе не содержат положений о целях и задачах уголовного судопроизводства.
Статья 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. формулирует следующие задачи и цели: «Задачами советского уголовного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. Уголовное судопроизводство должно способствовать укреплению социалистической законности и правопорядка, предупреждению и искоренению преступлений, охране интересов общества, прав и свобод граждан, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции СССР и советских законов, уважения правил социалистического общежития».
Статья 2 УПК РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) формулирует цели и задачи совершенно аналогично.
Такой формулировкой целей и задач уголовного судопроизводства законодатель характеризует уголовное преследование как единственную основополагающую форму уголовно-процессуальной деятельности, поскольку уголовное судопроизводство без осуществления уголовного преследования теряет какой-либо смысл. При таком подходе вполне закономерным выглядит естественное формирование отдельной самостоятельной стадии уголовного процесса, в ходе которой необходимо предварительно установить наличие события и состава преступления. Установление данных фактов и является основанием для начала следующего этапа уголовно-процессуальной деятельности, основной задачей которого является установление лица, совершившего преступление, и доказательство того, что данное преступление совершило именно оно. До подтверждения факта преступления пускать в ход всю мощь государственного аппарата по реализации норм уголовно-процессуального права просто нецелесообразно.
В ч. 1 ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства сформулировано как «защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод». Такая двуединая цель уже предполагает, что уголовное судопроизводство осуществляется не только и не столько для изобличения виновного лица, для назначения справедливого наказания, но и прямо в противоположных целях – для непривлечения невиновного лица к уголовной ответственности. При такой постановке цели уголовное преследование хотя и остается в высшей степени важной формой уголовного судопроизводства, однако уже не единственной.
Таким образом принятие решение о возбуждении уголовного дела не может однозначно гарантировать наличие преступления.

Взгляд. Размышления.Точка зрения ^t^S^^
В связи с этим вполне закономерно выглядит возросшее внимание ученых и правоприменителей к целесообразности такого процессуального решения, как возбуждение уголовного дела в современном его понимании, а равно к присутствию самой стадии возбуждения уголовного дела в структуре уголовного процесса. Одними учеными ставится под сомнение необходимость ее наличия, другие выступают за ее сохранение в уголовном процессе, ряд ученых полагают, что данная стадия уголовного процесса должна быть сохранена, но изменению подлежат порядок и пределы осуществления процессуальной деятельности в ее рамках [7, с. 36]. Вопрос соотношения понятий возбуждения уголовного дела и начала уголовного преследования при современной модели построения уголовного процесса также требует дополнительного осмысления.
Вопросы, связанные с институтом уголовного преследования, все прочнее занимают место в научных дискуссиях. Актуальность рассматриваемых институтов уголовно-процессуального права обусловлена изменением в конце прошлого века государственной правовой концепции, закрепленной Конституцией РФ, признанием примата прав человека и гражданина перед интересами государства и общества, что неизбежно повлекло необходимость приведения норм отраслевого законодательства в соответствие с новыми конституционными нормами и принципами.
Для уяснения сущности возбуждения уголовного дела следовало бы разобраться с тем, что понимается под уголовным делом. Нормативно закрепленного понятия уголовного дела в законодательстве мы не находим, вместе с тем большинство авторов понимают под уголовным делом уголовно-процессуальную деятельность. В качестве примера можно привести понятие, предложенное В.И. Никандровым, который под уголовным делом понимает «процессуальную деятельность лица, осуществляющего производство по конкретному факту действительно имевшего место или предполагаемого преступления» [4, с. 3]. В законодательстве и правоприменительной документации часто можно встретить такие формулировки, как «производство по уголовному делу», «уголовное дело приостановить производством».
Таким образом, уголовное дело по своей сути есть не что иное, как уголовное судопроизводство, уголовный процесс, включая и стадию возбуждения уголовного дела. При таком значении уголовного дела современная стадия возбуждения уголовного дела выглядит несколько нелогично, поскольку при получении сообщения о преступлении уполномоченное должностное лицо в любом случае обязано провести соответствующую проверку в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, и принять по ее результатам решение, также предусмотренное уголовно-процессуальным законом. Если предположить, что к уголовному делу относится только деятельность после установления события преступления и необходимых признаков состава преступления, то становится не понятно, к чему отнести деятельность уполномоченных лиц с момента получения сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного дела.
В науке уголовно-процессуального права термин «возбуждение уголовного дела» имеет несколько значений:
– юридический акт – процессуальное решение уполномоченного должностного лица, вынесенное в форме постановления и констатирующее, что в ходе проверки сообщения о преступлении (надлежащего повода) были получены сведения, в достаточной мере подтверждающие наличие признаков конкретного преступления;
– процессуальный институт, представляющий собой совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих порядок осуществления деятельности соответствующих субъектов по принятию, проверке и разрешению сообщений о преступлениях;
– стадия уголовного процесса – начальный этап уголовного процесса, имеющий специфические задачи, средства, круг участников, сроки, процессуальные решения;
– «регламентированная законом деятельность уполномоченных органов и должностных лиц, направленная на прием, регистра- цию, проверку и разрешение поступивших сообщений о преступлениях» [6, с. 5].
Возбуждение уголовного дела характеризуется наличием цели, совокупности средств, участников, временным ограничением, необходимостью принятия итогового процессуального решения.
Ключевым признаком стадии возбуждения уголовного дела представляется ее цель. Учитывая двуединую цель уголовного судопроизводства, цель стадии возбуждения уголовного дела можно представить как установление достаточных данных, указывающих на признаки преступления либо на отсутствие таких признаков. Однако не является секретом, что принятие решения о возбуждении уголовного дела не является гарантией того, что действительно в исследуемом деянии имеет место событие преступления и содержатся необходимые признаки состава преступления, равно как и решение об отказе в возбуждении уголовного дела не гарантирует их отсутствия в исследуемом деянии. Таким образом, наличие данной стадии в структуре уголовного судопроизводства не гарантирует достижения цели, ради которой эта стадия существует. А тот факт, что закон предоставляет возможность при наличии необходимых оснований прекратить уголовное дело на любой стадии (кроме стадии исполнения приговора и надзорного производства), сводит целесообразность данной стадии к минимуму.
Принятию процессуального решения о возбуждении уголовного дела предшествует уголовно-процессуальная деятельность, основной задачей которой является установление события преступления и признаков состава преступления. В ходе осуществления данной деятельности исследуются и оцениваются сведения на предмет их достаточности. Постановление о возбуждении уголовного дела является своего рода итогом проведенной деятельности, в ходе которой было установлено событие преступления и наличие необходимых признаков состава преступления.
Стадия возбуждения уголовного дела имеет довольно строгие временные ограничения. Часть 1 ст. 144 УПК РФ обязывает должностное лицо, проводящее проверку сообщения о преступлении, не позднее трех суток с момента получения сообщения принять по нему решение. При необходимости данный срок может быть продлен руководителем следственного органа или начальником органа дознания до 10 суток, и для проведения мероприятий, прямо предусмотренных законом, начальник следственного органа или прокурор могут продлить этот срок до 30 суток. Дальнейшее продление срока проверки сообщения о преступлении не предусмотрено. Нередко по объективным и субъективным причинам в установленный законом срок достаточные данные, указывающие на признаки преступления либо на их отсутствие, получить не удается. Порядок процессуальных действий на этот случай действующий уголовно-процессуальный закон не предусмотрел, поэтому на практике лицу, производящему проверку сообщения о преступлении, остается два пути решения данной коллизии: принять решение о возбуждении уголовного дела и продолжать проверку в рамках предварительного расследования; принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела, заведомо рассчитывая, что данное решение будет отменено в порядке ведомственного либо прокурорского надзора. Правомерность обоих вариантов решения при указанных обстоятельствах вызывает сильные сомнения.
Участников процесса на данной стадии можно условно разделить на следующие группы: субъекты проведения проверки – обязательные участники: орган дознания, дознаватель, следователь, начальник органа дознания, руководитель следственного органа; как субъекты контрольно-надзорной деятельности: суд, прокурор (прокурор – обязательный участник, суд – при наличии ходатайств, жалоб, заявлений от других участников процесса); иные участники (участие данных лиц на данной стадии уголовного процесса зависит от обстоятельств каждого конкретного дела): защитник, эксперт, специалист, переводчик, понятой, заявитель, свидетель.
При этом следует сразу оговориться, что до возбуждения уголовного дела процессуальный статус таких участников, как заявитель
Взгляд. Размышления.Точка зрения ^^^
или свидетель, имеет крайне неопределенный характер, и выделяются они в большей степени в связи с необходимостью их выделения, чем в соответствии с положениями законодательства. Так, понятие и процессуальный статус заявителя законодатель не раскрывает, основанием для его нахождения в составе участников уголовного процесса на стадии возбуждения уголовного дела объясняется упоминанием о нем в ст. 144 УПК РФ как о лице, подавшем заявление о преступлении, и обязанности лица, проводившего проверки сообщения о преступлении, уведомить заявителя о решении принятом по результатам такой проверки. Что же касается свидетеля, то в соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ «свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи». Соответственно, после возбуждения уголовного дела такое лицо получает статус свидетеля со всеми вытекающими из данного статуса правами и обязанностями; до возбуждения уголовного дела то же лицо, располагающее теми же сведениями, статуса свидетеля не имеет. Именно поэтому объяснения, полученные от таких лиц на стадии возбуждения уголовного дела, часто не признаются доказательствами по уголовному делу, хотя на основании содержащихся в них сведений лицо, производящее проверку сообщения о преступлении, принимает решение о достаточности данных, указывающих на признаки преступления.
К процессуальным средствам стадии возбуждения уголовного дела относится совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий, осуществляя которые участники данной стадии процесса получают данные, свидетельствующие в той или иной степени о наличии или отсутствии признаков преступления в исследуемом деянии. Перечень таких процессуальных действий довольно ограничен (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), что должно препятствовать нарушениям прав, свобод и законных интересов граждан.
В условиях действия современной конституционно-правовой модели, когда человек и его права и свободы объявлены высшей ценностью, большинство изложенных тезисов теряют актуальность. Представляется, что ущерб охране прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, интересам общества и государства наносят не сами по себе своевременные или несвоевременные, обоснованные или необоснованные решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении. Ущерб причиняется тем правовым воздействием, которое осуществляет или не осуществляет соответствующий участник уголовного процесса. Процессуальной деятельность становится не потому, что принято решение о возбуждении уголовного дела, а потому, что эта деятельность осуществляется на основаниях и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, независимо от решения о возбуждении уголовного дела.
Под уголовным преследованием УПК РФ понимает «процессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления» (п. 55 ст. 5 УПК РФ).
Кроме того, уголовное преследование в науке уголовно-процессуального права также имеет несколько значений:
– уголовное преследование как самостоятельная функция уголовного судопроизводства [2, с. 7];
– уголовное преследование как процессуальный институт [11, с. 7];
– уголовное преследование как цель уголовного судопроизводства [10, с. 12];
– уголовное преследование как начальная стадия обвинения [8, с. 27].
Уголовное преследование также характеризуется наличием специфической цели, совокупности процессуальных средств, участников, необходимостью принятия итогового процессуального решения, однако не имеет временного ограничения.
Целью уголовного преследования является изобличение лица, совершившего преступление. Исходя из значения слова
«изобличать», к преступному деянию представляется обоснованным применять его в значении «доказывать, обнаруживать доказательство совершения лицом преступного деяния». В связи с этим деятельность по изобличению подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления можно охарактеризовать как деятельность по доказыванию совершения подозреваемым, обвиняемым преступления.
К субъектам уголовного преследования законодатель относит участников уголовного судопроизводства, выступающих на стороне обвинения. Вместе с тем объем полномочий по осуществлению уголовного преследования у каждого субъекта существенно отличается. Кроме того, если прокурор, следователь, дознаватель, орган дознания обязаны осуществлять уголовное преследование (ч. 2 ст. 21 УПК РФ), то потерпевший (представитель потерпевшего) вправе содействовать осуществлению уголовного преследования, а процессуальные возможности гражданского истца (представителя гражданского истца) по осуществлению уголовного преследования законом не предусмотрены вовсе. Представляется, что, относя всех участников со стороны обвинения к субъектам уголовного преследования, законодатель имел в виду возможность реализации ими обвинительной функции, которая также называется функцией уголовного преследования. В таком случае имеет место пример не вполне удачного употребления одного термина в разных значениях.
Следует обратить внимание на то, что и проверку сообщения о преступлении, и уголовное преследование осуществляют следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, орган дознания. Между тем, как уже ранее было указано, целью стадии возбуждения уголовного дела является установление достаточных данных, указывающих на признаки преступления либо на их отсутствие. Уголовное преследование же реализует функцию сугубо обвинительную. Реализация одним и тем же лицом двух и более функций не может не отражаться на объек- тивности уголовно-процессуальной деятельности.
Хотелось бы также обратить внимание, что уголовное преследование осуществляется по факту совершения одного конкретного преступления и в отношении конкретного лица. При подозрении, что одно и то же лицо совершило несколько преступлений, уголовное преследование осуществляется индивидуально по каждому отдельному преступлению. В то же время при совершении одного преступления несколькими лицами уголовное преследование осуществляется в отношении каждого из них индивидуально при том, что уголовное дело возбуждается одно по каждому факту преступления, независимо от того, сколько лиц подозревается в его совершении.
Отдельного разговора заслуживает и момент начала уголовного преследования. Если о моменте возбуждения уголовного дела сигнализирует вынесение уполномоченным лицом постановления о возбуждении уголовного дела на основании полученных в ходе проверки достаточных данных, указывающих на признаки преступления, то момент начала уголовного преследования законодателем никак прямо не обозначен. Данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что ранее понятия уголовного дела и уголовного преследования считались тождественными.
Так, М.А. Чельцов связывал возбуждение уголовного преследования с началом уголовного процесса: «Фактическим началом процесса и является возбуждение уголовного преследования. Понимая под ним процессуальное решение в виде постановления соответствующего государственного органа, в котором устанавливается наличие в том или ином событии признаков уголовного преступления и принимается решение о его начале. В этот начальный момент объектом уголовного преследования не обязательно должно являться индивидуально определенное лицо (оно может быть неизвестно), а всякий предполагаемый совершитель преступления» [10, с. 348].
В настоящее время отсутствие процессуального решения о начале уголовного пре- следования представляется не вполне логичным. Законодатель допускает возможность прекращения уголовного преследования (ст. 25.1, 27, 28, 28.1 УПК РФ) без необходимости прекращения уголовного дела при этом, однако прекращение уголовного дела одновременно влечет за собой и прекращение уголовного преследования (ч. 3 ст. 24 УПК РФ), исключая таким образом возможность осуществления уголовного преследования при отсутствии возбужденного уголовного дела. Получается, что при прекращении уголовного преследования в отношении всех имевшихся подозреваемых производство по уголовному делу осуществляется без осуществления уголовного преследования. При установлении лица, подозреваемого в совершении преступления, у правоприменителя отсутствует возможность обозначить, что в отношении данного лица начато уголовное преследование; кроме того, как задержать его в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ либо избрать в отношении него меру пресечения? При отсутствии для этого оснований по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, у правоприменителя остается только один выход – предъявить такому лицу обвинение, минуя стадию подозреваемого, что, в свою очередь, ограничивает возможность такого лица на реализацию своего права на защиту. При производстве предварительного расследования в форме дознания такой проблемы нет, так как предусмотрена возможность уведомить такое лицо о подозрении.
По мнению К.С. Агабекова, «началом уголовного преследования является момент осуществления следственных и иных процессуальных действий и принятия процессуальных решений участниками досудебного производства со стороны обвинения, содержание которых дает основание лицу полагать, что в отношении него осуществляется проверка на причастность его к совершению преступления. Данный факт признается вне зависимости от наличия у этого лица определенного процессуального статуса и в любой стадии реализации уголовно-процессуальных отношений» [1, с. 18]. Согласиться с данным мнением не позволяет тот факт, что этот-критерий носит субъективный характер и не всегда может соответствовать действительному положению дел.
По мнению автора, началу уголовного преследования должна предшествовать регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность, позволяющая сформировать у субъекта этой деятельности достаточные данные, чтобы подозревать лицо в совершении преступления. Наличие таких данных и должно являться основанием начала уголовного преследования, о чем лицо должно быть надлежащим образом уведомлено. Поскольку такое лицо подвергается определенному процессуальному воздействию в связи с подозрением его в причастности к совершению преступления (применение мер принуждения, доставление в орган дознания, ограничение свободы) до принятия решения о возбуждении уголовного дела, то и возможность официального уведомления такого лица, должна быть предусмотрена независимо от возбуждения уголовного дела.
Подводя итог, следует отметить, что с закреплением в уголовно-процессуальном законе возможности возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, а не только по факту совершения преступления, наметилась тенденция к размыванию границ между понятиями «возбуждение уголовного дела» и «начало уголовного преследования», которая усиливается с расширением перечня следственных действий, допускаемых до возбуждения уголовного дела. Вместе с тем в современных условиях, когда человек и его права объявлены высшей ценностью, реализация назначения уголовного судопроизводства требует большего внимания к процедуре уголовного преследования как началу обвинительной деятельности государства в отношении конкретного человека. Принятие решения о возбуждении уголовного дела по результатам уже проведенной уголовно-процессуальной деятельности представляется не вполне целесообразным. В большей степени отвечающим требованиям реализации принципа состязательности уголовного процесса в современных условиях представляется мо- мент начала уголовного преследования, который приобретает более принципиальное значение в качестве основания применения всего арсенала процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством для достижения цели уголовного судопроизводства.
Список литературы Возбуждение уголовного дела и начало уголовного преследования: проблемы соотношения
- Агабеков, К.С. О начале уголовного преследования в условиях охранительного правосудия / К.С. Агабеков // Мировой судья. – 2019. – N 1. – С. 14-18.
- Ильин, С.И. Уголовное преследование в досудебном производстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – 24 с.
- Мазюк, Р.В. Возникновение, становление и развитие понятия «уголовное преследование» в российском уголовном судопроизводстве : учебное пособие / Р.В. Мазюк. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. – 79 с.
- Никандров, В.И. Возбуждение уголовного дела : лекция / В.И. Никандров. – М.: ВЮЗИ, 1990. – 22 с.
- Печников, Г.А. Устав уголовного судопроизводства 1864 года – коренной переход от формальной к объективной (материальной) истине и актуальные проблемы истины в современом УПК РФ / Г.А. Печников, Н.А. Соловьева, В.М. Шинкарук // Legal Concept. – 2015. – N 1. – С. 42-48. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustav-ugolovnogo-sudoproizvodstva-1864-goda-korennoy-perehod-ot-formalnoy-k-obektivnoy-materialnoy-istine-i-aktualnye-problemy-istiny-v (дата обращения: 10.03.2021).
- Румянцева, М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы : монография / М.О. Румянцева. – М.: Юстицинформ, 2019. – 148 с.
- Стельмах, В.Ю. Правовая сущность стадии возбуждения уголовного дела / В.Ю. Стельмах // Общество и право. – 2020. – N 3 (73). – С. 33-37. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-suschnost-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата обращения: 14.03.2021).
- Таджиев, Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений / Х.С. Таджиев. – Ташкент, 1985. – 183 с.
- Уголовный процесс : учебник / под ред. А.С. Кобликова. – М.: Издательская группа Норма-Инфра, 2012. – 384 с.
- Чельцов, М.А. Уголовный процесс / М.А. Чельцов. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. – 624 с.
- Шишкина, Е.В. Институт уголовного преследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.В. Шишкина. – Волгоград, 2008. – 18 с.