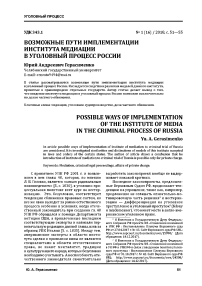Возможные пути имплементации института медиации в уголовный процесс России
Автор: Герасименко Ю.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (16), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возможные пути имплементации института медиации в России. Исследуется сходства и различия моделей данного института, принятые в правопорядках отдельных государств. Автор статьи делает вывод о том, что введение института медиации в уголовный процесс России возможен исключительно по делам частного обвинения.
Медиация, уголовное судопроизводство, дела частного обвинения
Короткий адрес: https://sciup.org/14119438
IDR: 14119438 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Возможные пути имплементации института медиации в уголовный процесс России
С принятием УПК РФ 2001 г. и появлением в нем главы 40, которая, по мнению Л. В. Головко, является «самым радикальным нововведением» [5, с. 1030], в уголовно-процессуальная политике взят курс на вестернизацию. Это, безусловно, соответствует тенденции сближения правовых систем, но все же явно выходит за рамки естественного процесса особенно в условиях, когда отечественный законодатель при создании гл. 40 УПК РФ обращался к помощи Департамента юстиции США, а привлеченные последним соответствующие эксперты и написали первоначальную редакцию данной главы, взяв за образец УПК Италии [5, с. 1035]. Между тем, американские эксперты в области института сделки о признании вины не являются специалистами в области отечественного права, не знают менталитет, традиции и культуру нашего народа, которые безусловно необходимо учитывать. А неспособность отечественного законодателя самостоятельно выработать законопроект, вообще не выдерживает никакой критики.
Последние законопроекты, предложенные Верховным Судом РФ, продолжают тенденцию наупрощение,такие как, например, предложение не оглашать описательно-мотивировочную часть решения1 и вестернизацию — дифференциация на уголовное преступление и уголовный проступок2 (felony и misdemeanor), что имеет место в англо-американском уголовном праве.
В научной литературе активно обсуждается вопрос о необходимости введения института медиации в уголовный процесс, которая, по мнению О. В. Корягиной, с одной стороны, позволит разгрузить суды, а с другой, предоставит право потерпевшему решать судьбу уголовного преследования [9, с. 67], В зарубежной уголовно-правовой теории медиация рассматривается как ускоренное или толерантное производство, упрощающее уголовно-процессуальные процедуры [9, с. 67].
Следует отметить, что примирительные процедуры в уголовно-правовой сфере существуют во многих государствах мира в рамках медиативных программ, специального закона либо вовсе не имеют правовой регламентации. Для того, чтобы рассмотреть характерные черты медиации, проведем небольшое компаративистское исследование, на основании двух критериев: вид уголовного преследования и стадия уголовного судопроизводство на которой применяется процедура медиации.
Уголовно-процессуальный закон Франции не ограничивает применение медиации какими-либо отдельными категориями уголовных дел. Необходима лишь инициатива прокурора и его убеждение в том, что медиация отвечает интересам обвиняемого, потерпевшего и общества [3]. Процедуру примирения проводит прокурор самостоятельно либо делегирует свои полномочия [10, с. 160]. В соответствии с законодательством Франции медиация допускается и на судебных стадиях [5, с. 169].
В отличие от французского подхода уголовно-процессуальный закон ФРГ ограничивает составы, по которым возможно провести примирительные процедуры. В их число входят: дела о неприкосновенности жилища, служебных помещений, оскорблении, нарушении тайны переписки, телесных повреждениях, угрозе причинении имущественного ущерба. Возбуждение обвинения допускается только после того, как посреднические органы, указанные земельным управлением юстиции, безуспешно пытались примирить стороны [10, с. 198].
Швейцарский законодатель осторожно воспринял институт медиации, ограничив возможность его применения узкой категорией составов преступлений. В качестве примирителя выступает прокуратура, а общественные и правозащитные организации действуют внепроцессуально. Сама медиация рассматривается как альтернатива открытию производства [13, с. 119—120].
Причины широкого применения института медиации в Франции и вытекает из того, в отличии от французское уголовное право относится к частной отрасли права, предопределяя тем самым превалирование частноправовых начал в уголовном судопроизводстве.
В англосаксонской правовой системе судебная медиация используется по всем категориям дел и предполагает признание обвиняемым вины [9, с. 68].
В США, в частности штате Северная Каролина, действует программа медиации районного уголовного суда, предусматривающая посредничество в суде и представляющая собой альтернативу судебному разбирательству, но не уголовному процессу в целом. При этом медиативные процедуры проводятся по любым уголовным делам, если прокурор и суд усмотрели пользу от проведения процедуры [3, с. 204].
Институт медиации существует и в некоторых странах СНГ. Например, законодательство Молдавии не предусматривает составы преступлений, по которым возможно проведение процедуры медиации, но большинство из них касаются тех преступлений, по которым уголовное дело возбуждается только по жалобе потерпевшего [7, с. 27].
Основное существенное различие между континентальной и англо-саксонской моделью заключается в том, что категория дел, по которым применяется институт медиации, невелика и исключительно по делам частного обвинения.
Рассматривая проблему медиации в современном отечественном уголовном процессе, невозможно, не выяснив объективную потребность в этой правовой конструкции [5, с. 173], определить, не окажется ли медиация в противоречии с традиционными институтами уголовного и уголовно-процессуального права [9, с. 66].
Институт медиации введен в отечественную юрисдикцию в 2010 году1 и является новеллой, но, несмотря на это, уже сейчас, основываясь на статистических данных, представленными судами, можно сделать некоторые важные выводы.
Статистика применения института медиации, представленная судами общей юрисдикции за 2014 год показывает, что с помощью медиации было урегулировано 1329 дел (0,01 % от числа рассмотренных), а уже в 2015 году путём проведения медиации было урегулировано 1115 дело (0,007 % от числа рассмотренных). Арбитражные суды субъектов представили аналогичные статистические данные. По информации, поступившей из судов, стороны практически не используют процедуру медиации для разрешения споров1.
Таким образом, институт медиации не востребован в правоотношениях, где превалирует частный интерес. Можно ли при таких условиях говорить о необходимости распространения медиации на уголовно-правовые и уголовно-процессуальные правоотношения?
Безусловно, медиация в отечественном уголовном процессе необходима. Урегулирование сторонами уголовно-правовых конфликтов путем переговоров и достижения взаимовыгодного консенсуса, не прибегая к помощи государственного уголовно-процессуального механизма, можно только приветствовать. Взяв за основу данный тезис, необходимо определить место медиации в системе уголовно-процессуального регулирования и выработать направление реформирования законодательства в данной области.
Согласно Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 «О посредничестве по уголовным делам» процесс посредничества должен проводиться с соблюдением следующих требований: добровольное согласие обвиняемого и потерпевшего; конфиденциальность; доступность услуги; обеспечение возможности примирения как в ходе досудебного производства, так и в суде; независимость и автономность процедуры; равноправие сторон и нейтральность посредника [1, с. 4]. Реализация международных стандартов и принципов потребуют создания законодательной базы и существенного дополнения, изменения уже имеющихся норм.
Так, например, М. В. Нагуляк пишет о необходимости принятия закона о медиации по аналогии с ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», а также установления в УПК РФ возможности приостановления производства по делу не только до окончания процедуры медиации, но и до выполнения условий медиативного соглашения, не более чем на шесть месяцев [11, с. 8].
Принятие данной позиции может привести к фатальным для уголовного судопроизводства последствиям. Во-первых, ст. 1 УПК РФ не предполагают создание уголовно-процессуальных норм в иных законодательных актах, а создание подобного закона разрушит уголовно-процессуальное регулирование. Сам по себе институт медиации не связан с предоставлением дополнительных гарантий2. Во-вторых, приостановление производства по делу может повлечь за собой утрату следов преступления и доказательств, поскольку дознаватель и следователь не вправе производить следственные действия по приостановленному делу со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями [5, с. 137—142].
Очевидно, что введение института медиации потребует изменения уголовно-процессуального закона в целом, поскольку необходимо будет определить процессуальный статус медиатора, его права и обязанности, права и обязанности сторон, саму медиативную процедуру, ее правовые последствия и множество других вопросов, в частности взаимодействие медиации и других уголовно-процессуальных институтов.
А. А. Арутюнян видит институт медиации в качестве дополнительной меры уголовно-процессуального характера, направленной на достижение примирения между обвиняемым и потерпевшим с целью прекращения уголовного преследования или вынесения судебного решения в упрощенном порядке с учетом соглашения, достигнутого сторонами [2, с. 13], а А. С. Василенко предлагает объединить в ст. 25 УПК РФ примирение сторон и медиацию, оставив за судом право прекратить уголовное дело [4, с. 10].
Позволим себе высказать некоторые критические замечания по предложениям вышеуказанных авторов. Во-первых, медиативная процедура в отечественном уголовном процессе может заключаться лишь в достижении цели прекращении уголовного дела, что следует логике континентальной модели данного института. Во-вторых, редакция ст. 25 УПК РФ, предложенная А. С. Василенко, не представит возможности дознавателю и следователю прекращать уголовное дело на стадии предварительного расследования. В-третьих, сама сущность медиации будет нивелирована, поскольку в ст. 25 УПК РФ преобладает публичный интерес. Право, а не обязанность суда1 прекратить уголовное дело, что, впрочем, активно критикуется [13, с. 29], лишает смысла проведение примирительной процедуры [5, с. 176].
Медиация в уголовном процессе, безусловно, должна иметь самостоятельное значение и не сращиваться с другими институтами.
Решительной критике стоить подвергнуть понимание медиации как формы уголовного преследования несовершеннолетних [8, с. 28]. По нашему мнению, законодатель в достаточной степени обеспечил в гл. 50 УПК РФ особенности производства в отношении несовершеннолетних, а позиция Верховного Суда РФ не позволяет применять упрощенные порядки в отношении данной категории лиц2.
Сфера применения института меди- ации в уголо вном процессе, по мнению
-
1 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Ленинского районного суда города Махачкалы о проверке конституционности статьи 25 УПК РФ. Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 №519-0-0. СПС «КонсультантПлюс». URL; http://www.consultant ru/document/cons_doc_LAW_71114/ (Дата обращения 29.11.2017).
-
2 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 мая 2006 № 60 (ред. от 22.12.2015). РГ от 20 декабря 2006. № 286.
О. В. Корягиной, огранивается деяниями, которые утрачивают свою общественную опасность в результате прощения [9, с. 68]. А, по совместному утверждению А. А. Давле-това и Д. А. Братчикова, проблемы по применению медиативных процедур нет только по делам частного обвинения, поскольку примирение сторон поданному виду уголовного преследования обязывает суд прекратить дело [5, с. 177].
Следует согласиться с мнением о том, что медиативные процедуры в уголовном процессе возможны исключительно по делам частного обвинения. Только такая модель гармонично впишется в систему отечественных уголовно-процессуальных институтов и соответствует духу континентальной модели, где медиация имеет давние традиции [14, с. 117].
Обсуждение перспективы имплементации медиации в отечественный уголовный процесс позволяет нам сделать следующие значимые выводы.
-
1. Медиация — перспективный институт сточки зрения имплементации в отечественный уголовный процесс.
-
2. Характерная черта континентальной модели института медиации заключается в том, что он применяется по ограниченной категории составов преступлений.
-
3. Медиация в уголовном процессе должна иметь самостоятельное значение и не сращиваться с другими институтами.
-
4. Институт медиации в отечественном уголовном процессе применим исключительно по делам частного обвинения, где полностью исключён публичный интерес.
Список литературы Возможные пути имплементации института медиации в уголовный процесс России
- Апостолова, Н. Н. Развитие мировой юстиции в России/Н. Н. Апостолов//Мировой судья. -2015. -№ 10. -С. 3-6.
- Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук/А. А. Арутюнян. -Москва, 2012. -С. 32.
- Василенко, А. С. Медиация в уголовном процессе США/А. С. Василенко//Вестник Пермского университета. Юридические науки. -2012. -№ 2. -С. 202-208.
- Василенко, А. С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном процессе стран англосаксонского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук/А. С. Василенко. -М., 2013. -31 с.
- Григорьев, В. Н. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие/В. Н. Григорьев ; Челяб. юрид. ин-т МВД РФ. -Челябинск, 2005. -167 с.