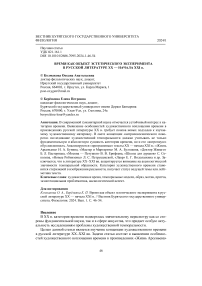Время как объект эстетического эксперимента в русской литературе ХХ - начала XXI в
Автор: Колмакова О.А., Берзкина Е.П.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В современной гуманитарной науке отмечается устойчивый интерес к категории времени. Выявление особенностей художественного воплощения времени в произведениях русской литературы ХХ в. требует поиска новых подходов к изучаемому художественному материалу. В свете концепции «антропокосмического поворота» исследование художественной темпоральности должно учитывать не только фундаментальную и абсолютную сущность категории времени, но и его «антропную» обусловленность. Анализируются «программные» тексты ХХ - начала XXI в.: «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, «Москва - Петушки» В. В. Ерофеева, «Школа для дураков» С. Соколова, «Новые Робинзоны» Л. С. Петрушевской, «Лавр» Е. Г. Водолазкина и др. Заключается, что в литературе ХХ-XXI вв. акцентируется внимание на аксиологической значимости темпоральной образности. Категория художественного времени становится стержневой в изображении реальности, получает статус ведущей темы или лейтмотива текста.
Художественное время, темпоральные модели, образ, мотив, притча, экзистенциальная проблематика, аксиологический аспект
Короткий адрес: https://sciup.org/148328508
IDR: 148328508 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2024-1-46-54
Текст научной статьи Время как объект эстетического эксперимента в русской литературе ХХ - начала XXI в
В ХХ в. категория времени подверглась значительному пересмотру как со стороны фундаментальной науки, так и в сфере искусства, что придает особую актуальность исследованиям проблемы художественной темпоральности.
Целью данной статьи является изучение концепции художественного времени в русской литературе XX–XXI вв. Задачи статьи состоят в выявлении особенностей художественного воплощения времени в произведениях «Жизнь Арсеньева»
И. А. Бунина, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, «Москва — Петушки» В. В. Ерофеева, «Пушкинский дом» А. Г. Битова, «Школа для дураков» С. Соколова, «Новые Робинзоны» Л. С. Петрушевской, «Лавр» Е. Г. Водолазкина и др.; в анализе темпоральных моделей, созданных авторами указанных произведений; в определении роли художественного времени в структуре текста с точки зрения его проблемно-тематической, сюжетно-композиционной и жанрово-стилевой организации.
Основная часть
Об однонаправленности векторов научного и художественного поиска по проблеме темпоральности писал Ж. Женетт: «Современные наука и философия как раз заняты тем, что путают удобные ориентиры “геометрии здравого смысла”, изобретают головоломную топологию, где есть пространство-время, искривленное пространство, четвертое измерение, новый неевклидовый лик универсума, то опасное пространство-головокружение, где строят свои лабиринты некоторые современные художники и писатели» [5, с. 126]. Вместе с тем исследователи отмечают, что архаическое «холистическое отношение к пространственно-временной составляющей мироописания характерно и для сегодняшнего времени» [16, c. 76].
По мнению В. В. Иванова, в искусстве ХХ в. время становится и «темой, и принципом конструкции произведения, и категорией, вне которой невозможно воплощение художественного замысла» [7, с. 39]. Время получает статус полноценного художественного образа. Его материальное воплощение — часы — обретает символическое значение. В частности, образ деформированных, необычных часов овеществляет собой сквозную для художников ХХ в. идею дисгармонии и абсурда миропорядка: вспомним развешенные часы-тряпки с картины «Постоянство памяти» (1931) С. Дали, летающие ходики, изображенные на «Автопортрете с часами перед распятием» (1947) М. Шагала, или «часы-дырку» из рассказа М. М. Зощенко «Дырка» (1927). Герой последнего узнает точное время, ориентируясь на движение солнечного луча относительно отверстия на полу: «Как солнце до этой дырки достигает, так, значит, без пяти семь...» [6, с. 365]. Однажды «солнечные часы» подвели героя — он опоздал на службу, и между ним и начальником произошел следующий абсурдный диалог:
«Заведующий говорит:
— Может, часы у тебя отстают?
— Дырка, говорю, отстает.
Объясняю все как есть.
Заведующий говорит:
— Стара́ штука. Я, говорит, сам довольно долго по гвоздю вставал…» [ 6, с. 365–366].
Особое значение в литературе и искусстве первой половины ХХ в. приобретает образ циферблата без стрелок. К этому образу обращается Д. Хармс в своей пародийной повести «Старуха» (1939):
«На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я спрашиваю: “Который час?”
— Посмотрите, — говорит мне старуха.
Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.
— Тут нет стрелок, — говорю я.
Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:
— Сейчас без четверти три» [20, с. 161].
Сломанные часы становятся важнейшим элементом абсурдной картины мира Хармса.
Образ часов без стрелок обретает философское звучание у Р. М. Рильке и И. Бергмана. В одном из текстов сборника «Новые стихотворения» 1907 г. Рильке запечатлел циферблат без стрелок, придав образу часов эсхатологическое звучание: «…часы покинув, // куда-то время умирать ушло» [13, с. 233]. Трагедия конечности человеческого существования стала темой культового фильма И. Бергмана «Земляничная поляна» (1957), где сквозной образ часов без стрелок напоминает профессору Боргу, главному герою ленты, о том, что его время безвозвратно уходит.
Западное искусство модерна с его концепцией субъективного восприятия реальности создает причудливые образы времени, поражавшие даже искушенных современников. Влиятельный художник и мыслитель ХХ в. Ж.- П. Сартр отмечал: «Большая часть современных писателей — Пруст, Джойс, Дос Пассос, Фолкнер, Жид и Вирджиния Вульф — постарались, каждый по-своему, покалечить время. Одни лишили его прошлого и будущего и свели к чистой интуиции момента; другие, как Дос Пассос, превратили его в ограниченную и механическую память. Пруст и Фолкнер просто обезглавили время, они отобрали у него будущее, т. е. измерение свободного выбора и действия» [14, с. 71]. Э. М. Форстер продолжил рассуждения своего французского коллеги: «Стерн <…> перевернул часы вверх дном <…> Марсель Пруст, еще более изобретательный, поменял местами стрелки <...> Гертруда Стайн, попытавшаяся изгнать время из романа, разбила свои часы вдребезги и разметала их осколки по свету» [19, с. 347].
Метаморфозы художественного времени, метафорически обозначенные Сартром и Форстером, свидетельствуют о переключении внимания писателей XX в. с проблем социально-исторического времени, актуальных для литературы XIX в., на изображение внутреннего, психологического, времени героя, объективированного в формах рефлексии и памяти. Мотивы разветвления линейного времени, его обратимости становятся сюжетообразующими для романа «потока сознания», где хронотопом является память героя. В ХХ в. между собой конкурируют две модели романа: «роман идей» с рационалистически организованным повествованием-рассуждением и «роман жизни», повествование которого представляет собой «поток образов внутреннего видения героя, работу души, рефлексию непосредственных переживаний» [9, с. 137], что создает ощущение непредсказуемой изменчивости и подвижности подлинного бытия.
В форме «потока сознания» построено повествование в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». В тексте четко обозначены два полюса конфликтного поля: хронологическое время индивидуальной человеческой жизни, ограниченное и конечное, и психологическое время памяти Алексея Арсеньева, разомкнутое в бесконечность. «Жизнь Арсеньева», как и любой другой роман «потока сознания», создан по «принципу непроективности», благодаря которому создается эффект адетерминированности событий.
В. В. Иванов говорит о непроективности, как о «характерной черте едва ли не всех наиболее выдающихся романов, пьес и фильмов XX века» [7, с. 60–61].
К примеру, в романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков также использует принцип непроективности, но делает это для решения иных, чем у И. А. Бунина, художественных задач. У Булгакова сюжет развивается в двух временных планах, один из которых воспроизводит события «вечной книги», другой показывает жизнь Москвы 1920-х гг. При этом библейские события изображаются как действительные, истинные, для чего Булгаков использует линейно-историческое время. Подлинность же московских событий, в которых время субъективно и дискретно, напротив, ставится автором под сомнение. Подобная стилистика призвана дискредитировать современную автору реальность. В финале, когда обе сюжетные линии сходятся, время исчезает, уступая место вечности. Острота социальнопсихологической составляющей романного конфликта нивелируется, происходит актуализация его философского звучания.
В ХХ в. художники-реалисты создают не менее эмблематичные образы времени, чем модернисты. Время в неореалистическом романе способно безгранично расширяться по воле автора, замедляться, а то и вовсе исчезать. Например, в прозе Л. М. Леонова линейную хронологию основного сюжета нарушает вторжение мифа («египетский текст» в «Соти») или предания (повествование о «громадном времени детства» славянских племен в романе «Русский лес»). Ю. В. Трифонов создает «романы-пунктиры», совмещающие объективное время хроники и память персонажа — субъективно-дискретное время, названное в программном романе писателя «Время и место» «рамкой, в которую заключен человек» [17, с. 321].
Призмой восприятия времени для многих русских художников ХХ в. становится притча, главным образом, христианская. Русские писатели активно используют жанровый потенциал притчи, обращаются к притчевым сюжетам, мотивам и образам. В романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» притчевость является стилеобразующим элементом. Вневременной план притчи кодирует сюжет пребывания Юрия и Лары в Варыкине. В размышлениях Живаго обыденные, ничем не примечательные факты обретают статус сакральных событий: «Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования» [11, с. 424]. Пастернак намеренно приурочивает события романа к православному календарю. Так, лето, проведенное Юрой в 1903 г. в деревне, соотносится с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а события периода гражданской войны связаны со Страстной неделей и концом Великого поста. Обращение к притчевому хронотопу позволяет Пастернаку раскрыть сущность русской души: ее способность «жить и пребывать во многих веках и возрастах сразу» [18].
Опытом притчи конца ХХ в. стал рассказ Л. С. Петрушевской «Новые Робинзоны», в котором изображается мир накануне катастрофы. Герои Петрушевской уезжают в далекую деревню и селятся в заброшенном доме. Но и это убежище разоряют какие-то «хозкоманды», и семья вынуждена бежать в лес. В рассказе неслучайно упоминается о городской квартире «с генеральскими потолками», которую покинули герои, чтобы спастись сначала в деревенском доме, а затем в маленькой лесной избушке. Пространство жизни героев стремительно сужается, а время замедляет свой ход. Когда замолкает эфир радиоприемника, время останавливается совсем. Вневременной план сюжета подкреплен аллюзиями на притчу о Ноевом ковчеге, к которой апеллируют финальные слова героини-рассказчицы: «…у нас были грибы, ягоды, картофель с отцовского огорода <...> рос озимый хлеб. Были козы. Были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода, кошка, носившая нам шалых лесных мышей, была собака Красивая <...> была бабушка, кладезь народной мудрости» [12, с. 82].
Во второй половине ХХ в. новые возможности для эксперимента с темпоральными структурами открывает постмодернизм. Исследователи постмодернизма говорят о принципиальном неприятии его представителями всего «закосневшего и превратившегося в стереотип» [8, с. 156]. В прозе отечественного постмодернизма, сформировавшегося в русле советского андеграунда, категория художественного времени подвергается разного рода трансформациям. В повести-поэме «Москва — Петушки» В. В. Ерофеев играет с идеей нелинейности времени. Сюжет железнодорожного путешествия вдоль линии, обозначенной в названии произведения, развивается согласно принципу ризомы — бесконечно ветвящегося пространства-времени, в котором «Господь в синих молниях» соседствует с античными эриниями, Иммануилом Кантом и декабристами. Разновременные пласты человеческой культуры совмещаются в сознании героя. Завершает произведение эпизод смерти героя, которую он сам и констатирует: «Они вонзили мне свое шило в самое горло… и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду» [3, с. 122]. Парадоксальность этого эпизода обусловлена нарушением принципа необратимости времени: выходит, что история умершего Венички рассказана им самим уже после смерти.
В 1971 г. А. Г. Битов пишет роман «Пушкинский дом», в котором сюжет сотворения текста — художественного мира — оборачивается экзистенциальной проблемой поиска подлинной реальности. Тема времени как важнейшей характеристики реальности является у Битова центральной. Определяющая роль категории времени в судьбе главного героя Левы Одоевцева задана в интертекстуальной игре — в отсылках к лермонтовскому «Герою нашего времени». Лева физически ощущает влияние времени: «В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед, и Митиша-тьев, и время — в меня!» [1, с. 293]. Однако главная проблема Левы состоит в том, что он лишен настоящего, а значит подлинности своего бытия: «Ты ешь завтрашнее, а перевариваешь вчерашнее», — говорит о нем дед [1, с. 79]. Как и Веничка у Ерофеева, битовский Лева переживает свою смерть. Реализовав авторский сюжет до конца, Одоевцев наконец обретает себя настоящего и свое настоящее.
Гротескное наполнение категории времени у Битова связано с антитоталитарной проблематикой и воплощено в мотиве «коллективно-неверного времени», возникшем в сне героя. Этот сон иронически комментирует Автор: «Ах, что удивляться одинаково неправильным часам, когда нам уже сны общие снятся!» [1, с. 329].
В еще одном тексте раннего русского постмодернизма — романе С. Соколова «Школа для дураков» — эксперимент с категорией художественного времени становится основным элементом людической поэтики автора. Исследователь отечественного постмодернистского дискурса И. Скоропанова писала о «принципе déjà vu» в романе Соколова, подразумевающем отход от исторического времени и создание особого хронотопического образа, который исследовательница назвала
«прошло-настояще-будущим» [15, с. 300]. Главный герой романа существует в трех разновременных ипостасях: как «ученик такой-то», его «двойник» и «инженер». Так же расщепляются-сливаются образы возлюбленной героя Веты Акатовой («учительница биологии» — «ветка акации» — «простая девочка») и ее отца («Леонардо да Винчи» — «учитель географии» — «Савл Норвегов»). Подобная темпоральная модель задает бесконечность цикла, в котором смерть лишается своей тотальности: сознание героя-рассказчика — это сознание художника, способное победить смерть. Кроме того, сложно организованное, ветвящееся время персонажей маркирует нетривиальность, сложность их внутренних миров.
Культурная ситуация в России рубежа ХХ и XXI вв. отмечена кризисными явлениями, обусловленными крахом советской политической системы, идеями о «конце истории» (Ф. Фукуяма) и возникающими в общественном сознании на сломе эпох эсхатологическими предчувствиями de la Fin du siècle.
Динамические конструкции времени становятся наиболее востребованными для отражения процессов быстро меняющейся картины мира в постсоветском пространстве. Образ времени — сквозной в русской литературе конца ХХ — начала XXI в., что явственно видно уже из названий «программных» произведений этого периода: «Время ночь» Л. Петрушевской, «До и во время» В. Шарова, «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина, «Блуждающее время» Ю. Мамлеева и др. Названные произведения концептуализируют понятие «конец века», делая его достоянием «коллективного бессознательного».
Вместе с тем на рубеже ХХ–XXI вв. в науке и искусстве происходит «антропо-космический поворот», по-новому оценивший человеческую личность, способную не только аккумулировать социально-исторический опыт человечества, но и вместить всю полноту бытия. Взгляд на мир сквозь призму «специфически человеческого» выявляет подлинные ценностные ориентиры личности в противовес прежним социально-экономическим моделям.
«Антропокосмический поворот» обусловил развитие новых подходов к изображению человека в искусстве. Художники демонстрируют широчайший диапазон в раскрытии внутреннего мира героя, поднимаясь до уровня высокой метафизики и опускаясь до «подвалов» человеческого подсознания. Писатели создают особые хронотопические модели, «сподручные человеку» (М. Хайдеггер), способные примирить его с окружающей реальностью.
Сквозной для многих программных текстов русской литературы конца ХХ — начала XXI в. становится идея слитности быта и бытия. Как отметил Ж. Женетт: «Современный человек ощущает свою временную длительность как тревогу <…> он успокаивается, проецируя свою мысль на вещи, конструируя планы и фигуры, черпая таким образом хоть немного устойчивости и стабильности из пространства геометрического» [5, с. 126]. Данным обстоятельством обусловлено особое внимание современного искусства к изображению бытовых коллизий, «вещного мира». Например, в романе О. А. Славниковой «Бессмертный» (2001) героиням удается «заморозить время»: для обеспечения покоя парализованного отца семейства мать и дочь создают «бытовую симуляцию» эпохи «застоя» в отдельно взятой «дальней комнате» своей квартиры.
В начале ХХI в. отношение писателей к категории времени усложнилось. В некоторых случаях становится возможным говорить о возврате писателей к христианским ценностям, с чем связано их особое внимание к центральной христианской антиномии «время — вечность». С данных позиций может быть рассмотрена проза Е. Г. Водолазкина и Е. С. Чижовой. В романе Е. Г. Водолазкина «Лавр» (2012) автор обращается к спиралевидной концепции времени. Арсений-Лавр читает «Александрию» — текст, соединяющий античность со средневековьем и современностью. Идея сопричастности друг другу разных временных пластов становится основополагающей в романе, воплощая философию хроноса писателя: «…время существует в оболочке вечности»1.
В романе «Брисбен» (2018) Водолазкина также интересует категория вечности. Глеб Яновский, главный герой романа, в своих размышлениях напрямую связывает понятия «жизнь» и «время». Дед героя Мефодий, человек мудрый и глубоко верующий, развивает мысли Глеба, придавая им философское звучание: «С точки зрения вечности нет ни времени, ни направления… Будущее — это свалка фантазий. Или — еще хуже — утопий: для их воплощения жертвуют настоящим» [2, с. 399]. Ощущение преодоления времени приходит к Глебу в храме, когда он слышит слова молитвы. Автор воплощает христианские представления о времени и вечности, вложенные в уста отца Нектария: «Трудно отнять настоящее, еще труднее — прошлое. И невозможно, доложу я вам, отнять вечность» [2, с. 405].
В романе Е. С. Чижовой «Лавра» (2002), как и в пастернаковском «Докторе Живаго», время движется в соответствии с церковным календарем. Основные вехи жизни героини отмечены такими важнейшими православными праздниками, как Прощеное воскресенье, Успение, Преображение. Особую роль в сюжете играет Пасха. Пасхальный архетип, по словам И. А. Есаулова, преломляется в русской литературе в специфическом «пасхальном хронотопе» [4, с. 44]. Пристальное внимание современного автора к пасхальным событиям задает вектор движения к постепенному воскрешению заблудшей души героини, терзаемой противоречиями, но ищущей свой путь. Финал романа обладает глубоким христианским смыслом. Образ героини, неподвижно распростершейся на полу храма, символизирует остановившееся время и торжество жизни вечной.
Заключение
Искусство ХХ–XXI вв. осуществляло свои философско-эстетические поиски, активно «работая» с категорией времени в формально-поэтическом и содержательном аспектах. Писатели акцентировали внимание на аксиологической значимости темпоральной образности. Во многих знаковых произведениях прошедшего и текущего столетий художественное время стало стержнем изображаемой реальности, ведущей темой или лейтмотивом. Перспективы дальнейших исследований видятся в продолжении изучения темпоральной образности текстов современного литературного процесса, рассматриваемого в контексте русской классики XIX– XX вв.
Список литературы Время как объект эстетического эксперимента в русской литературе ХХ - начала XXI в
- Битов А. Г. Пушкинский дом: роман. Москва: Современник, 1989. 399 с. Текст: непосредственный.
- Водолазкин Е. Г. Брисбен. Москва: АСТ, 2019. 416 с. Текст: непосредственный.
- Ерофеев В. В. Москва — Петушки и пр. Москва: Прометей; МГПИ им. В. И. Ленина, 1990. 128 с. Текст: непосредственный.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. Москва: Кругъ, 2004. 560 с. Текст: непосредственный.
- Женетт Ж. Фигуры: в 2 томах. Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Текст: непосредственный.
- Зощенко М. М. Нервные люди. Рассказы и фельетоны (1925–1930). Москва: Время, 2008. 752 с. Текст: непосредственный.
- Иванов В. В. Категория времени в искусстве и культуре ХХ века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Ленинград: Наука, 1974. C. 39–66. Текст: непосредственный.
- Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. Москва: Интрада, 1998. 256 с. Текст: непосредственный.
- Колобаева Л. А. От временного к вечному (Феноменологический роман в русской литературе ХХ века) // Вопросы литературы. 1998. № 3. С. 132–144. Текст: непосредственный.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 томах. Т. 1: 1953–1968. Москва: Академия, 2003. 416 с. Текст: непосредственный.
- Пастернак Б. Л. Доктор Живаго: роман. Повести. Фрагменты прозы. Москва: Советский писатель, 1989. 736 с. Текст: непосредственный.
- Петрушевская Л. С. Собрание сочинений: в 5 томах. Т. 1: Проза. Харьков: Фолио; Москва: ТКО АСТ, 1996. 398 с. Текст: непосредственный.
- Рильке Р. М. Новые стихотворения. Москва: Наука, 1977. 544 с. Текст: непосредственный.
- Сартр Ж.-П. Ситуации: Что такое литература? Статьи. Эссе. Москва: Ладомир, 1998. 432 с. Текст: непосредственный.
- Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. Москва: Флинта; Наука, 2001. 604 с. Текст: непосредственный.
- Сычева О. И. Пространственный аспект характеристики топохрона в мифологической картине мира // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. № 4. С. 73‒77. Текст: непосредственный.
- Трифонов Ю. В. Как слово наше отзовется... Москва: Советская Россия, 1985. 384 с. Текст: непосредственный.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ Georgij_Florovskij/puti-russkogo-bogoslovija/ (дата обращения: 24.01.2024). Текст: электронный.
- Форстер Э. М. Избранное. Ленинград: Художественная литература, 1977. 376 с. Текст: непосредственный.
- Хармс Д. И. Полное собрание сочинений: в 6 томах. Т. 2: Проза. Драматические произведения. Авторские сборники. Незавершенное. Санкт-Петербург: Академический проект, 1997. Текст: непосредственный.