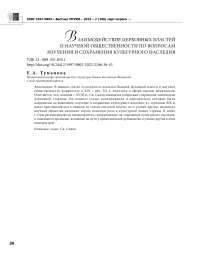Взаимодействие церковных властей и научной общественности по вопросам изучения и сохранения культурного наследия
Автор: Туманова Елизавета Александровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (106), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье исследуются попытки Высшей Духовной власти и научной общественности выработать в XIX - нач. ХХ в. политику в сфере охраны памятников. Отмечается, что, начиная с XVIII в., Св. Синод занимался вопросами сохранения памятников церковной старины. Он издавал указы, распоряжения и определения, которые были направлены на выявление, изучение и сохранение культурного наследия, а с середины XIX в. начал прислушиваться к мнению не только светской власти, но и ученых кругов, поскольку научные общества начинали играть немалую роль в культурной жизни страны. В связи с этим рассматриваются законопроекты, направленные на сохранение культурного наследия, и отмечаются проблемы, встающие на пути у представителей духовенства и ученых кругов в этом нелегком деле.
Св. синод, научная общественность, археологические съезды
Короткий адрес: https://sciup.org/144162561
IDR: 144162561 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-2106-36-43
Текст научной статьи Взаимодействие церковных властей и научной общественности по вопросам изучения и сохранения культурного наследия
Начиная с XVIII в., Св. Синод и местные епархиальные власти занимаются вопросами сохранения памятников церковной старины [5, с. 24]. С XVIII по начало XX в. Высшая Духовная власть издавала специальные указы, распоряжения и определения, которые были направлены на выявление, изучение и сохранение движимых и недвижимых памятников. Св. Синод активно включился в процесс сохранения культурного наследия и с середины XIX в. начал прислушиваться к мнению не только светской власти, но и научной общественности.
О значимости изучения проблемы сохранения Русской Православной Церковью культурного наследия в дореволюционный период свидетельствует тот факт, что она поднимается многими авторами. Примечательными являются работы А. А. Формозова, М. А. Поляковой, Т. В. Растимешиной, Л. В. Порватовой [11; 5; 6; 9; 7] и др. Каждое из этих исследований с разной степенью углубленности затрагивает вопросы взаимодействия Церкви и научной общественности в деле выявления, изучения и сохранения культурного наследия, а значит, является важным этапом в процессе знакомства с изучаемой темой и погружения в нее.
Однако всех вышеперечисленных работ недостаточно для того, чтобы прийти к точному пониманию эффективности взаимодействия Св. Синода и научной общественности в данном направлении, поскольку в них отсутствует четкая систематизация нормотворческой деятельности как Русской Православной Церкви, так и научных обществ.
Именно это обстоятельство определяет выбор темы исследования, целью которого является всестороннее исследование сотрудничества Высшей Духовной власти и общественности в деле выявления, изучения и сохранения культурного наследия, а также определение его эффективности. Необходимо понять, какие именно предпринимались шаги в данном направлении и каковы были их итоги.
Обращение к проблеме сохранения Русской Православной Церковью культурного наследия является сейчас актуальным. Изучение ее дореволюционного опыта позволяет выявить ее взаимодействие с научной общественностью, а также определить основные направления деятельности Церкви и их слабые и сильные стороны. А определение прежних упущений позволит избежать прошлых ошибок и выработать наиболее эффективные меры по сохранению культурного наследия на современном этапе. Кроме того, изучение дореволюционного опыта Церкви позволит выработать определенную преемственность в деле взаимодействия церковной власти и научной общественности по изучению и сохранению культурного наследия. В недав- ние годы Церковь на высоком уровне провела ряд конференций, посвященных данному вопросу, и вновь активно привлекает ученых, реставраторов, писателей, публицистов и историков к обсуждению данной темы. Особенно важны проблемы правового характера, и их разработка требует обращения к опыту прошлых столетий, когда такого рода шаги уже предпринимались.
В основе исследования лежат законодательные источники периода Российской империи. Они широко представлены в сборнике документов «Сохранение памятников церковной старины в России XVII – начала XX вв.» и хрестоматии «Охрана культурного наследия России в документах XVII-XX вв.» [10; 4], которые дают полное представление о деятельности Церкви в данном направлении в дореволюционный период.
Также интерес представляют работы П. У. (аноним) и А. В. Жиркевича [8; 1], характеризующие отношение общественных и научных кругов к деятельности Русской Православной Церкви, касающейся сохранения памятников старины; в указанных работах собран обширный объем сведений о практике взаимодействия Церкви и научного сообщества по данному вопросу.
Итак, сотрудничество Высшей Духовной власти с научными обществами Российской империи началось во второй половине XIX в. Именно тогда – в 1869 г. – благодаря предложению Московского археологического общества1 был разработан проект положения об охра-
-
1 Московское археологическое общество (МАО, с 1881 г. – Императорское Московское археологическое общество) – российское научное общество, созданное в 1864 г. в Москве для изучения и охраны памятников истории и культуры России, проведения археологических раскопок. Деятельность общества способствовала научному изучению края, пропаганде местной истории и культурного наследия, созданию музеев и развитию издательской деятельности.
не древних памятников. Он был направлен на их обнаружение, учет и сохранение [10, с. 104-106].
В соответствии с названым проектом, памятники разделялись на четыре разряда: письменности; архитектуры; живописи, ваяния и резьбы; а также изделия из золота, серебра, меди и железа. А страна разделялась на пять особых археологических округов. Разрабатывали авторы положения и форму описей, где следовало обозначать принадлежность памятника определенному ведомству, его состояние сохранности и необходимость в реставрации, а также историю и причины внесения в список [10, с. 105]. После составления описей их следовало выносить на рассмотрение комиссии, состоящей, в том числе, из членов археологических обществ, духовных академий и Духовного ведомства.
Предполагалось, что комиссия при составлении сводного списка памятников, разделяла их на два разряда. К первому разряду относились памятники, которые запрещалось изменять без Высочайшего разрешения. А ко второму – памятники, которые после разрешения ведомства можно было ремонтировать или видоизменять. Перед началом такой деятельности важно было получить консультацию того Археологического общества, которое находилось в округе и в каждую губернию направляло по одному или несколько блюстителей.
Составление данного проекта являлось первой комплексной попыткой сохранить памятники от искажения или разрушения. При этом упор делался именно на научную общественность, то есть совершалась попытка узаконить в деле сохранения культурного наследия зависимость церковных властей от светских и влияние собственно-научного сообщества.
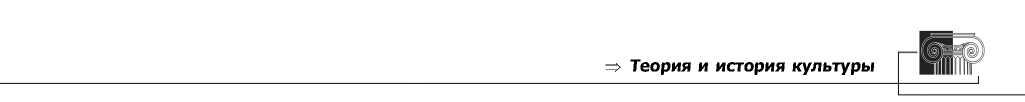
Однако данному проекту не было суждено в полной мере воплотиться в жизнь. Он был видоизменен. Согласно доработанному проекту [10, с. 106-107], графы описей оставались прежними. Но в разряды памятников добавлялись ткани и древние одежды. А также вводилось дополнение, согласно которому в процессе работы общества могли пользоваться описями памятников, собранными в Св. Синоде или в Военном министерстве и в Министерстве Внутренних дел. Делегаты Съезда поддерживали замысел об учреждении Особой комиссии, которой следовало создать заключительный свод памятников. Для контроля состояния сохранности памятников также избирались члены обществ или лица, известные любовью к старине [10, с. 107].
Этот доработанный проект был в 1871 г. одобрен во время проведения II Археологического съезда (исследователи отмечают, что именно в этот период научные общества начинают играть ведущую роль в культурной жизни страны [6, с. 71]) и передан на рассмотрение Св. Синода, Министерства внутренних дел, Академии наук и Академии художеств, однако после длительного обсуждения в 1876 г. был отвергнут.
По результатам дискуссии в 1876 г. была создана комиссия под председательством А. Б. Лобанова-Ростовского, в состав которой вошли, в том числе, представители Св. Синода и археологических обществ. Эта комиссия разработала проект правил о сохранении исторических памятников [10, с. 109-110]. Согласно ему, все памятники должны были сохраняться объективно и не зависеть от собственности (правительственной, общественной или церковной), в которой они находились. Для достижения данной цели, важным являлось учреждение при Министерстве народного просвещения Императорской (государствен- ной) Комиссии о сохранении исторических памятников. В состав ее вновь включались представители духовного ведомства, археологических и исторических обществ. Императорская Комиссия занималась бы выявлением, учетом и проведением экспертизы ценности памятников, разрабатывала бы меры по их сохранению, составляла бы охранные и должностные инструкций отделам и блюстителям. Именно ей обязывались бы докладывать о проведении работ, способных повлечь изменение памятника, епархиальные и гражданские власти. Проект предлагал отказ от разделения памятников по ведомственной принадлежности и создание централизованного органа, занимающегося охраной памятников. Однако, к сожалению, и этот проект был отклонен из-за недостаточности средств финансирования.
Тем временем происходило расхищение и разрушение культурного наследия. В качестве примера можно назвать скандал, потрясший страну в 1877 г.: во Владимирской епархии духовенством была самовольно отремонтирована Церковь Покрова на Нерли, в результате чего сильно исказился ее интерьер и внешний облик. На это внимание обер-прокурора Св. Синода обратил председатель Московского Археологического общества граф А. С. Уваров. Именно по его инициативе в 1878–1879 гг. Высшая Духовная власть издала Определение, согласно которому внешний вид и интерьер церквей следовало тщательно сохранять, а епархиальным властям в вопросах реставрации отныне требовалось получать разрешение Св. Синода и взаимодействовать с местными научными археологическими или историческими обществами [4, с. 39].
Однако, несмотря на предпринимаемые Высшей духовной властью и научной общественностью меры по сохранению культурного наследия, Определения Св. Синода и мнения археологических обществ продолжали игнорироваться представителями епархиальной власти.
К примеру, к середине 80-х годов XIX в. отмечалось, что в Переславле-Залесском некоторые древности почти полностью были уничтожены. Так, художественная стенная живопись Успенского собора Горицкого Успенского монастыря была замазана масляными красками по распоряжению благотворителя. Маляры, отвечая на претензии археолога по поводу плохой работы, сказали: «Что-де хорошего в старом, новое лучше…» [8, с. 146]. Церковь Св. Петра митрополита XVI в. также не вызывала ассоциаций с древностью, ведь интерьер ее являлся пестрым, разновременным и безвкусным [8, с. 147-148]. А в ризнице Никитского монастыря XII в. гнили материи и вышивки XVI-XVII вв. и наблюдались случаи хищений: «значавшаяся в описи жемчужная с каменьями митра Екатерины I и архимандрита Иосифа пропали» [8, с. 148].
В 1887 г. произошел новый скандал: министр народного просвещения И. Д. Делянов настойчиво просил Комитет министров о подтверждении указов об охране памятников от самовольного ремонта или уничтожения и в качестве примера ссылался на историю с ремонтом Церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове [10, с. 130-134]. В результате проведенного в 1882 г. научной общественностью освидетельствования здесь были выявлены грубые нарушения, так как ремонт проводился при отсутствии технического и художественного руководства, что сильно исказило облик древнего храма.
И. Д. Делянов попросил императора подтвердить соблюдение требований ст. 207 и 209 Устава строительного. Согласно им, запрещалось без высочайшего разрешения и согласия Высшей Духовной власти занимать- ся ремонтом в церквах и древних памятниках, причем требовалось сохранять их внешний и внутренний вид. Обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев предложение И. Д. Деляно-ва поддержал и сообщил, что его ходатайство отвечает воззрению Св. Синода на памятники [10, с. 133].
В 1894 г. Св. Синод издал Определение, согласно которому реставрация могла проводиться только после согласования с Императорской Археологической комиссией1 [4, с. 179]. Видимо, воле Высшей духовной власти не подчинились епархиальные архиереи. Поэтому Св. Синод по просьбе комиссии был вынужден в 1897 г. напомнить о необходимости следовать Определению [10, с. 164; 9, с. 124]. Однако епархиальные власти продолжали взаимодействовать с местными археологическими обществами или архивными комиссиями и игнорировать при этом Императорскую Археологическую комиссию.
В связи с этим необходимо было срочно решать проблему сохранения культурного наследия. Для этого в декабре 1904 г. при Министерстве Внутренних дел была образована Особая Комиссия по пересмотру действующих постановлений об охранении древних памятников и зданий в заседаниях 22 февраля, 7, 14 и 28 марта и 14 апреля 1905 г. Она подготовила «Основные положения», которые предусматривали необходимость
-
1 Императорская археологическая комиссия (ИАК) – государственное учреждение в ведении Министерства императорского двора, созданное в 1859 г. с целью поиска предметов древности, относящихся к отечественной истории и жизни народов, сбора сведения о памятниках и их ученой оценки. Комиссия следила за всеми совершающимися в государстве открытиями предметов древности и с 1889 г. имела исключительное право производства и разрешения археологических раскопок на казенных землях. Реставрационные работы должны были проводиться после согласования с Императорской Археологической комиссией.
сохранения памятников зодчества, живописи и ваяния, письма и печати, прикладного искусства, памятников, замечательных по древности, художественному достоинству и археологическому или историческому значению, а также монументов в честь лиц и исторических событий. Все памятники разделялись на памятники выдающейся археологической, исторической или художественной ценности, остальные памятники, а также на памятники движимые и недвижимые. Причем памятники, находящиеся в частном владении, могли быть отчуждаемы за вознаграждение. Для сохранения памятников предполагалось создать сеть учреждений в лице археологических или исторических обществ [10, с. 199-202].
Год спустя, давая отзыв на «Основные положения», Императорское Московское археологическое общество определяло свое отношение к ним в большей степени как негативное [10, с. 205-208]. В частности, оно просило определить состав «центрального охранительного органа» и «низших губернских органов», занимающихся охраной памятников, пояснить их права и обязанности, предоставить уже имеющиеся списки памятников, сократить срок объявления предмета памятником древности со 150 до ста лет и т.д.
Таким образом, процесс рассмотрения данного законопроекта занял длительное время. А пока документ обсуждался, не все было гладко в деле сохранения культурного наследия. В 1908 г. разразился новый скандал. Его причиной стали злоупотребления архиепископа Смоленского Петра, разгромившего церковно-археологический музей. На этот поступок архиепископа Петра обращал внимание А. В. Жиркевич в своей заметке «Еще один археологический покойник». Он с сарказмом и возмущением восклицал, что разгромленный церковно-археологический музей теперь «никому не будет более мешать, дерзко назойливо напоминая о синодальных циркулярах, в которых рекомендуются меры к собиранию и хранению церковных древностей» [1, с. 963]. А после А. В. Жиркевич вопрошал общественность: «Неужели циркуляры попрежнему пишутся лишь для того, чтобы их грубо, произвольно нарушали? Неужели… мы… пройдем равнодушно мимо такого поругания родной старины?!» [1, с. 963].
Общественность не осталась в стороне. 8 апреля 1908 г. председатель Московского археологического общества графиня П. С. Уварова призвала изъять у приходов древние предметы и передать их в собственность государства. Естественно, ее предложение являлось революционным, поэтому, внесенное на обсуждение Совета министров, оно было отклонено. Отказ объяснялся тем, что Высшая духовная власть ответственно подходила к делу сохранению культурного наследия, а передача памятников в государственную собственность являлась нарушением законодательства. Вместе с тем, вразрез собственным словам, Совет Министров рекомендовал обер-прокурору Св. Синода как можно скорее принять меры «к сохранению надзора за хранящимися в установлениях духовного ведомства памятниками русской старины» [4, с. 217-221].
В августе 1908 г. на заседании XIV археологического съезда было внесено предложение о привлечении к ответственности всех лиц, даже представителей духовенства, за искажение или уничтожение памятников [10, с. 232-234]. Но все осталось незыблемым.
В 1909 г. при Министерстве внутренних дел для создания нового законодательства об охране памятников была создана комиссия, которая предложила проект «Положения об охране древностей». В 1911 г. министр Ми- нистерства Внутренних дел А. А. Макаров рассказал о нем в Государственной думе [10, с. 252-258, 259-266]. Согласно ему, создавался Комитет по охране древностей. Работы по ремонту и реставрации древностей должны были производиться после связи с Комитетом и по планам, утверждаемым им или его местными учреждениями. В случае же раскопок на казенных или частных землях право производить их принадлежало Императорской Археологической Комиссии.
Однако многие положения проекта вызвали резкую критику научной общественности. К примеру, Академия Художеств утверждала, что проект не решал задачу охраны памятников [2, с. 21]. Съезд художников сетовал на то, что научная и художественная общественности были представлены в составе Комитета в недостаточных количествах [2, с. 21]. А Московское Археологическое общество было недовольно тем, что в проекте под местными учреждениями понимались епархиальные комитеты и губернские ученые архивные комиссии, а не научная общественность [2, с. 21]. В свою очередь, в противовес подобного рода возмущениям председатель Комиссии по описанию синодального архива А. И. Соболевский утверждал, что Церковь имеет большие заслуги в деле охраны памятников [2, с. 22].
Так или иначе из-за возникших противоречий и вступления России в Первую Мировую войну данный проект не был доведен до конца. Начало войны отвлекло внимание общественности от проблемы охраны памятни- ков, хотя продолжали иметь место случаи либо естественной гибели историко-культурных памятников, либо уничтожения и расхищения культурного наследия. С лета 1916 г. началась работа по рассмотрению вопросов, связанных с сохранением памятников. Она была прервана началом Февральской революции 1917 г.
Таким образом, подводя итоги всему сказанному, следует отметить, что, несмотря на эффективное взаимодействие, ни Высшая Духовная власть, ни научная общественность в конечном итоге не смогли выработать единую политику в сфере охраны памятников. Все проекты, направленные на определение понятия «памятник», на осуществление его классификации и сохранения, по разным причинам так и не были приняты. Это привело к тому, что в новый, советский, период страна вступила без законодательства в сфере охраны памятников.
Тем не менее, следует отметить, что Высшая духовная власть все же старалась активно противостоять разрушению культурного наследия и являлась тем светлым пятном, которое проявлялось на общем темном фоне случайного или целенаправленного искажения или уничтожения памятников. Св. Синод и по собственному желанию, и по «принуждению» издавал многочисленные указы, распоряжения и определения, которые были направлены на выявление, изучение и сохранение культурного наследия. В этом плане его нормотворчество прошло сложный, важный и интересный путь развития. Но это уже тема другого исследования.
Список литературы Взаимодействие церковных властей и научной общественности по вопросам изучения и сохранения культурного наследия
- Жиркевич А. Еще один археологический покойник // Исторический вестник, 1907. № 6. С. 959-963.
- Карапетян Л. А. Отзывы научно-экспертного сообщества России начала ХХ в. на правительственный законопроект 1911 г. об охране культурного наследия: к постановке проблемы // Культурная жизнь Юга России, 2018. 1 (18). С. 20-23.
- Московские епархиальные ведомости (офиц. отдел), 1979. №12. С. 39.
- Охрана культурного наследия России в документах XVII-XX вв. Хрестоматия. Т.1 / Л. В. Карпова, Н. А. Потапова, Т. П. Сухман. М.....r-Весь Мир, 2000. 528 с.
- Полякова М. А. Охрана культурного наследия в России: учеб. пособие для вузов.......: Дрофа, 2005. 271 с.
- Полякова М. А. Роль общественности в сохранении культурного наследия России // Памятники истории и архитектуры Европейской России, 1995. С. 69-76.
- Порватова Л. В. Организационно-правовые основы взаимодействия государства и Русской Православной Церкви по сохранению памятников православной религиозной культуры (историко-правовое исследование): Дисс. ... канд. Юридич. Наук: 12.00.01 / Порватова Людмила Васильевна; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. М., 2011. 197 с.
- П.У.(аноним). Сохранение древних памятников в России // Исторический вестник, 1885. Январь. С. 145-151.
- Растимешина Т. В. Охрана культурного наследия в России XIX в.: формирование опыта взаимодействия церкви, гражданского общества и государства в сфере музеефикации исторических и культурных ценностей // Экономические и социально-гуманитарные исследования, 2016. №4 (12). С. 118-130.
- Сохранение памятников церковной старины в России XVIII-начала XX вв.: сборник документов / В. С. Дедюхина, С. П. Масленицына, Л. В. Шестопалова [и др.]; вступ. ст. В. С. Дедюхиной. ......"Отечество, 1997. 395 с.
- Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры.......: Сев-Россия, 1990. 112 с.