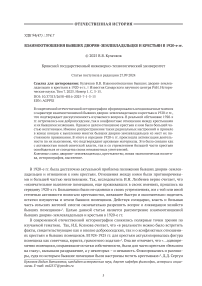Взаимоотношения бывших дворян-землев- ладельцев и крестьян в 1920-е гг.
Бесплатный доступ
В современной отечественной историографии сформировались неоднозначные мнения о характере взаимоотношений бывших дворян-землевладельцев и крестьян в 1920-е гг., что подтверждает дискуссионность изучаемого вопроса. В реальной обстановке 1920-х гг. встречались как добрососедские, так и конфликтные отношения между крестьянами и их бывшими хозяевами. Однако в целом отношение крестьян к ним было большей частью негативным. Именно распространение таких радикальных настроений и привело в конце концов к выселению многих бывших дворян-землевладельцев из мест их постоянного проживания. В итоге в середине 1920-х гг. произошла активизация деятельности по их выселению, что подтверждают архивные материалы. Это было связано как с активностью новой советской власти, так и со стремлением большей части крестьян освободиться от соседства своих ненавистных угнетателей.
Дворяне-землевладельцы, крестьянство, новая экономическая политика, историография, выселение
Короткий адрес: https://sciup.org/148330680
IDR: 148330680 | УДК: 94(47) : 374.7 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-1-5-15
Текст научной статьи Взаимоотношения бывших дворян-землев- ладельцев и крестьян в 1920-е гг.
считает, что «…Советское правительство постепенно подвергало дискриминации класс бывших помещиков и дворян, чтобы они не создавали контрреволюционных ситуаций по месту своего основного жительства. Это выражалось также в том, что многие люди были вынуждены эмигрировать за границу, лишались имущества и были ограничены в избирательных правах»4.
В обстоятельной статье Е.П. Бариновой резюмируется, что «в условиях иной социальной реальности традиционные модели поведения не работали, и бывшим дворянам волей-неволей приходилось приспосабливаться к новому миру, который их не принимал. Новая властная элита полагала, что дворянство является фактором социального риска, который необходимо устранить»5. Н.Н. Никитина отмечает, что «бывшие дворяне, помещики, получившие достойное образование и воспитание в дореволюционное время, теперь в лучшем случае устраивались в волостные или уездные административные учреждения, в худшем – добывали пропитание своей семье простыми ремеслами…»6. Она же придерживается мнения, что «после ликвидации имений их владельцы не исчезли, не потеряли интереса к жизни и убеждения в необходимости служить Отечеству, имели многодетные семьи, крепкие родственные связи и ждали позитивных перемен в жизни»7. По мнению Д.В. Валуева, «…бывшие помещики еще долго продолжали занимать важные позиции в социальном поле деревни. В ноябре 1919 г. военный комиссар инспекции кавалерии ремонтов направил в армейский политотдел донесение, в котором сообщал о настроениях крестьянства в некоторых уездах Смоленской губернии. Среди прочего он отмечал: «Еще должен обратить внимание на следующее обстоятельство, местные помещики и крупные кулаки по прежнему владеют своими поместьями, образовав с своими прежними подчиненными – трудовые артели и сельскохозяйственные коммуны, и несмотря на жалобы крестьян Земельному Отделу, все остается по-прежнему»8. Д.В. Валуев отмечает, что «...многие помещики сумели приспособиться к новым условиям. Так, по воспоминаниям О.М. Стариковой, представительницы дворянского рода Краевских, ее бабушка Елена Ивановна, в прошлом владелица поместья в Краснинском уезде, проживала в начале 1920-х гг. в своем имении Лунино, «занимая бывшую комнату повара». После начала НЭПа она «чувствовала себя совершенно «законно»», поскольку «по числу имевшейся в бывшем поместье пахотной земли (садов никто не считал) ... никак не могла быть причислена к помещикам»9. Вышеупомянутый исследователь И.Н. Лозбенев обоснованно считает, что «процесс выселения бывших помещиков из мест их проживания в 1925 - 1927 гг. завершил целую эпоху в аграрной истории России - истории и развитии помещичьих хозяйств. Их экономические основы были подорваны «Декретом о земле» 1917 г. После изъятия помещичьих земель в период гражданской войны, оставшиеся хозяйства уже не имели большого значения для экономики страны»10.
Необходимо иметь в виду, что насильственные действия в отношении бывших помещиков вступили в наиболее активную фазу в 1917 г. Так, С.В. Кистанов придерживается мнения, что «деревенские низы, пользуясь своей безнаказанностью, проводили насильственные меры против помещиков, кулаков и хуторян, намереваясь устранить их из жизни деревни. Предпринимаемые уездными властями меры были явно недостаточными, чтобы пресечь волну крестьянского движения. Это, во многом, объясняется слабостью властей в стране как таковой в условиях постоянного политического кризиса между февралем и октябрем 1917 г.»11.
По всей видимости, крестьянство, несмотря на переход власти к большевикам, по-прежнему использовалось как государственный и самый многочисленный ресурс. Так, по мнению А.А. Иванова и Т.П. Федяевой, «по факту же крестьянство рассматривалось и использовалось как инструмент для снабжения продовольствием страны, рабочей силой предприятий, солдатами Красной армии. При этом любое крестьянское неповиновение рассматривалось властями как неподчинение действующим законам, с одной лишь пометкой, что в эпоху Временного правительства оно характеризовалось как революционное и поддерживалось политическими силами будущей Советской России, но с приходом к власти последних они приобрели контрреволюционный характер. Сохранилась инерционность многих процессов, проходивших в деревне в изучаемый период времени, несмотря на изменение курса развития страны и смену власти»12.
Архивные материалы это подтверждают, что дает возможность согласиться с мнением исследователей. В частности, 8 декабря 1917 г. было отправлено послание от Товарищества Стодольской суконной фабрики Василия Барышникова и сыновей в адрес Трубчевско-го уездного комиссара. В нем сообщалось, что «27 ноября сего года в Карповском нашем имении 3 района Трубчевского уезда на хуторе Галы жители дер. Маковье разбили замки на амбаре и самочинно взяли 240 пудов ржи, 200 пудов овса, 30 пудов ячменя, 30 пудов гречихи, 3 колеса окованных, 1 хомут, 1 сиделку, 1 дугу, молочную посуду, вилы, боченки и развозят кирпич, которого было 9350 штук и т.д. Такого рода самочинные действия жителей с. Карповки и дер. Маковье являются уголовно-наказуемыми действиями и подлежат уголовному преследованию»13.
В художественной литературе тема бывших помещиков также получила свое освещение. Так, в сборник рассказов «Глубокая борозда. Русская деревня в прозе 20- 30-х годов» включен рассказ И. Соколова-Микитова с характерным названием «Пыль» (1924 г.), в котором описан визит бывшего помещика Алмазова в родные места14. Сам Алмазов так описывал отношение к себе крестьян: «…меня встречают как нищего. В сущности, меня так и приняли. Третьего дня один мужик меня назвал так: ты – пыль. Как это верно!»15.
В сборнике «Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг.» также содержатся крестьянские письма, посвященные взаимоотношениям с бывшими помещиками: «как, писал в 1924 г. от имени односельчан заведующий избой-читальней села Растворово Серебрянской волости Мещовского уезда Калужской губернии С.В. Кузнецов: «У нас живет помещик. У него 40 дес. земли. Деревенская земля вокруг его земли. И он нам очень мешает, что во время лета везде позагородит и даже нет хорошего прогона. И вот что есть закон, чтобы дать ему на заду [деревни], а эту отобрать и разделить, так как он нам очень мешает»16. Д.В. Валуев информирует, что «в борьбе с помещиками некоторые руководители выступали за самые жесткие меры. Осенью 1918 г. в наркомат земледелия и ВЦИК из Юхновского уезда Западной коммуны поступила «жалоба в связи с выселением помещицы Житковой». Представители центральных органов встали на сторону просительницы. Председатель же уездного исполкома И.А. Андреев, «ссылаясь на временные правила к закону о социализации земли, продолжал настаивать не только на выселении Житковой, но и на направлении «паразитического элемента» в концентрационный лагерь». В дело вмешался отдел управления Западной коммуны, который по рассмотрению данного дела вынес резолюцию, в которой были следующие строки: «… Решение Юхнов-ского исполкома считать правильным за исключением того места, где говорится о направлении Житковой в концентрационный лагерь, так как ввиду старческих лет эта мера к ней неприменима»17.
Именно распространение таких радикальных настроений и привело в итоге к выселению многих бывших помещиков, что подтверждают архивные материалы. В частности, 5.01.1925 г. датируется послание зав. Брянского губземуправления, что «во исполнение циркуляра НКЗ за № 2887 нами сделано распоряжение всем ВИКам о высылке бывших помещиков и частных владельцев, а именно: Бежицкой волости на 2 января, Овстугская на 3, Людинковская и Жуковская на 5, Дубровская и Навлинская на 6, Выгоничская и Во- роновская на 10. Помимо этого сделано дополнительное распоряжение ВИКам о высылке наряду с бывшими помещиками и владельцами крупных поместий, также всех нетрудови-ков – собственников, которые имели земли в большем количестве и жили как помещики, обрабатывая землю наемным трудом или сдавая таковую в аренду. По мере явки их в УЗУ делаются соответствующие опросы с предъявлением явившимися надлежащих документов на право пользования землей и имуществом»18.
В социально-правовом поле по отношению к бывшим помещикам также принимались ограничительные меры. Так, Д.В. Валуев отмечает, что «в соответствии с нормами Конституций РСФСР 1918 и 1925 гг. многие бывшие помещики были лишены избирательных прав. Лишая их права голоса, местные власти обычно относили владельцев имений к категории «лиц, эксплуатирующих наемный труд». Поэтому уездные избирательные комиссии, рассматривая жалобы помещиков, требовали от сельсоветов присылать сведения о том, национализировано ли их поместье и сколько в нем «постоянных наемных рабочих»19.
К процессу выселения органы власти подходили достаточно жестко, хотя бывали и исключения, как и в любом деле. Ярким примером могут служить архивные сведения о бывших владельцах Дмитриевых и Клементьеве, которые подали заявления о пересмотре своих дел. В частности, 8.03.1925 г. датируется письмо Брянскому губземуправлению, направленное Бежицким уземуправлением. В нем указывалось, что «Дмитриевы были крупными помещиками, имеющими 442 десятины всей земли, а Клементьев, хотя и имел 32 десятины как наследство от мачехи, но зато является офицером царской армии и, ссылаясь на циркуляр НКЗ № 2887 от 8.11. 1924 г. по пункту 1 п.5, выселение их должно быть произведено тем более, что они были внесены в списки, представленные Вам и ГИКу на утверждение и утверждены, а потому Уземуправление находит нецелесообразным вновь пересматривать материал, что вызовет целое паломничество всех остальных как предназначенных, так и уже выселенных владельцев низшего разряда»20.
Аналогичное решение было принято и в отношении гражданина Ткачевского: «Бежицкое Уземуправление разъясняет, что гражданин Ткачевский имея 900 десятин земли всех угодий, своими владениями ставил в кабальность крестьян и жил на барскую ногу. Его барское отношение к трудовому крестьянству оставило ему на крестьянской среде и по сие время крестьяне продолжают именовать его «барином» … В заключение можно сказать, что гражданин Ткачевский является нежелательным элементом и оставаясь при этом мнении, просит выселение еще раз подтвердить»21. Стоить заметить, что в архивном деле много таких посланий – жил на «барскую ногу», называли «барин» и т.д.
По таким же причинам был выселен бывший землевладелец Бежицкой волости П.Д. Дмитриев, что стало понятно после рассмотрения его заявления. В протоколе заседания губернской комиссии, состоявшегося при Бежицком уземуправлении, по рассмотрению материалов по выселению бывших помещиков и землевладельцев от 14 по 15 апреля 1925 г., комиссии было указано, что он «до революции был крупным землевладельцем. Крестьян ставили в кабальные условия. В настоящее время является антисоветчиком и ведущим вражду с крестьянским элементом. Ходатайство Дмитриева об оставлении в своей усадьбе отклонить. Мебель и другую домашнюю обстановку не сельскохозяйственного назначения признать не подлежащей изъятию. Барометр как предмет сельскохозяйственного и научного значения отобрать»22.
Чтобы представить себе, какое имущество изымалось при выселении, также следует обратиться к архивным документам. Например, в 1925 г. был выселен бывший владелец Макаров Песоченской волости, и, соответственно, была составлена опись изъятого имущества: «было изъято 2 дома, сроком годности соответственно 65 и 50%, оценка 300 и 150 руб., скотный сарай с пристройкой, сроком годности 50 и 40% соответственно, общей сто- имостью 200 руб., два сенных сарая, срок годности 20 и 50%, общая стоимость 85 руб. и т.д. Кроме того, были изъяты земельные угодья в хуторском участке площадью пашни 4 дес., луга 5 дес., под усадьбой 1 дес. и т.д.»23.
Кроме того, в данном содержательном архивном деле24 содержатся и другие описи изъятого имущества выселенных в 1925 г. Одно только перечисление дает возможность представить масштабы выселения (описи изъятого имущества у бывшего владельца Шепелева Песоченской волости; Салова Выгоничской волости; Пошнякова Выгоничской волости; Циллиакуса Песоченской волости; Хургина Выгоничской волости; Бонч-Бруевича Жиря-тинской волости; Салова – Мочалова Выгоничской волости; Колесникова – Жилеева Песо-ченской волости; Лесли Песоченской волости)25. При этом с трудом, но можно понять энтузиастов данной кампании, ведь после революции прошли годы, а бывшие «власть имущие» продолжают жить на прежних местах и, как говорится, «мозолить» глаза.
Как указывалось, выше, были и исключения, когда человека оправдывали и не лишали давно обжитого места жительства. Так, в 1925 г. стол местного хозяйства Людинковского ВИКа сообщал Бежицкому Уземуправлению о том, что «упомянутый в списке гражданин Кузьмин М.С. в дореволюционное время земли не имел, а таковая принадлежала его отцу в настоящее время умершему. После его смерти земля поступила его дочерям в количестве 163 десятины, которые живут в других волостях. Михаил Кузьмин получил землю вернувшись с военной службы по приговору Надвинского общества в количестве 17 десятин, которую и обрабатывает своим трудом»26. В результате рассмотрения заявления бывшего владельца Агеева Евгения Тарасовича Овстугской волости Бежицкого уезда было выяснено, что «в политическом отношении Агеев безвреден, землю обрабатывает своим трудом. Кабальности по отношению населения нет. Ходатайство удовлетворить и не выселять»27.
Аналогичное решение было принято и в других похожих случаях. Так, в выписке из протокола заседания Президиума Губисполкома № 6 от 29.10.1925 г. указывается, что «протокол утвердить, кроме п.8 и 10. В отношении значащихся по п.8 гражд. Саловой-Мочаловой (Выгоничская волость) выселение отменить, как имевшей 10 десятин, происходившей из мещан и как не живущей с 1912 г. со своим мужем дворянином. Выселение значащихся по п.10 протокола Власкиных (Карачевский уезд, Вельяминовская волость) также отменить как крестьян купивших землю через банк с долгосрочной расплатой, сын которых Анатолий был членом Волиспокома несколько перевыборов и служил в Красной Армии»28.
В другой аналогичной ситуации также было принято решение о том, что бывший помещик не подлежит выселению. Так, в выписке из протокола № 35/18 заседания при Брянском губисполкоме по выселению бывших помещиков и крупных землевладельцев от 30.07.1926 г. содержатся сведения о том, что слушали информацию об «Агееве Семене Иосифовиче, Бежицкого уезда, гражданин С. – Песоченского завода. Отцом его приобретено 207 десятин земли в рассрочку на 6 лет, по происхождению рабочий. С 1908 г. Агеев служил на военной службе, а во время революции служил в Красной Армии (по сообщению ВИКа, но документы не представлены). Земля в начале революции была изъята и распределена между гражданами соседних селений. Проживал и в настоящее время проживает с семьей в с. Песочня в своем собственном доме и никакого отношения к бывшему имению не имеет (по сообщению ВИКа). А потому, исходя из всего вышесказанного выселению не подлежит, рассматривается в первый раз»29.
Важную роль при принятии решения о выселении играли характеристики, которые сохранились в архивных материалах. Например, в Бежицкое Уземуправление на запрос № 130 был отправлен ответ следующего содержания: «Волконская А.Л., жительница с. Бы-тоши имеет собственный дом, вдова, живет с дочерью на получаемую арендную плату за сдаваемое помещение Бытошскому сельскохозяйственному товариществу. Мужчин в се- мье нет: были 2 сына и те пропали без вести. Сельским хозяйством не занимается и само хозяйство не приспособлено к сельской жизни, до революции занималась торговлей и лесопромышленностью вместе с сыновьями. Враждебного влияния на население оказать не может, следовательно, и опасности не внушает»30.
В другом случае ситуация была иная, т.к. налицо было сокрытие имущества, которое приносило постоянный и весьма приличный доход. В 1925 г. в адрес уездного прокурора по Бежицкому уезду уездная комиссия по выселению бывших помещиков отправила данные «для привлечения к ответственности бывшую владелицу Шляпенкову Песоченской волости за ложные показания при опросе ее как бывшей помещицы Бежицким Уземуправлением. Сущность дела в том, что Шляпенкова при опросе укрыла мельницу и постройки при ней, но в своем № 65/с Песоченский ВИК сообщил, что Шляпенкова имеет мельницу, которой и пользуется по настоящее время»31.
Судя по архивным материалам можно сделать вывод о том, что к процессу выселения органы власти подходили весьма либерально и избирательно. Так, в 1925 г. в адрес Брянского Губземуправления Бежицкое Уземуправление сообщало, что «всего по уезду по состоянию на 15 апреля было зарегистрировано и опрошено 139 бывших помещиков и частных владельцев. Из коих уездной комиссией было представлено на утверждение ГЗУ и ГИКа 94 семьи, но утверждено лишь только 53, а остальные были переданы на пересмотрение. В результате последних постановлений Губкомиссии утверждено к выселению 77. В связи с поступившими жалобами в Губкомиссии, материалы были пересмотрены и в конечном итоге утверждено к выселению лишь только 59, из коих окончательно выселено 54, а 5 владельцев по предложению Губкомиссии приостановлены»32. В результате несложные расчеты показывают, что примерно выселялось окончательно и бесповоротно около 40% бывших помещиков.
Следует учитывать, что многим выселенным разрешали оставаться в пределах одной губернии. В частности, 4.04.1925 г. всем ВИКам Бежицкое Уземуправление разослало следующее циркулярное распоряжение о том, что «предлагается от выселения из пределов губернии бывших владельцев воздержаться. Что же касается выселения из их бывших владений, то проведите немедленное исполнение. Выселенные бывшие владельцы могут избирать себе местожительство в пределах губернии по своему усмотрению»33.
Однако кампанию по выселению бывших помещиков многие использовали для сведения старых счетов, о чем сохранились сведения в архивных документах. Так, в 1926 г. в Брянский Губисполком общество граждан дер. Глинькова Песоченской волости Бежицкого уезда отправило заявление следующего содержания: «в пределах нашей Песоченской волости был крупный землевладелец Кузнецов, имевший несколько хуторов на 2 тыс дес…. Один из этих хуторов он дал своей дочери, к которой принял зятя А.В. Низяева, который и поселился на полученном за женой хуторе у самых наших огородов и выгона и до самой революции держал нас в ежовых рукавицах, как и всякий заправский помещик. Во время же революции, когда земля перешла трудящимся, он и здесь сумел обойти нас, пользуясь нашей темнотой и нашей забитостью, явился к нам на сход и прикинувшись ласковым тельцом уговорил нас принять его в свое общество»34.
Говоря современным языком, Низяев позже обрезал землю возле хутора и еще перевез к себе брата из Спас - Деменского уезда Калужской губернии. В результате хутор вышел круглым, и крестьяне оказались обрезанными, что вызвало их протест, но без результата. В заявлении отмечалось, что «но что всего странно, то это то, что все хутора Кузнецова ликвидированы и там граждане живут истинные землеробы, но этот хутор остался, почему-то обойден комиссией по выселению землевладельцев. Ввиду изложенного мы покорнейше просим Брянский Губисполком о распоряжении ликвидировать и этот последний хутор
Кузнецова и тем освободить нас от нависшего над нами крепостного права…10.03.1926 г., граждане дер. Глинькова»35.
В ходе реализации кампании по выселению бывших дворян-землевладельцев часто возникали спорные вопросы, связанные как с бюрократизмом, так и противоречиями в решениях ответственных структур. Так, в марте 1926 г. в послании Губисполкому от Губ-комиссии по их выселению содержалась информация, которая касалась Влад. Фед. Энгельгардта. Указывалось, что «препровождая при сем анкету Энгельгардта Влад. Фед. Жиря-тинской волости, который постановлением Губкомиссии ГЗУ при рассмотрении списков выселяемых бывших помещиков подлежал к выселению, но не рассмотрен и не утвержден новым составом при ГИКе. Бежицкая комиссия просит сделать окончательное заключение. При чем сообщается, что гражданин Энгельгардт покинул свое местожительство в октябре 1925 г. добровольно, но в настоящее время выражает протест по поводу его выселения, мотивируя тем, что он лично не является владельцем, а служил в рядах старой армии, а также и тем, что в революцию он, имея землю, использовал таковую на трудовых началах и помимо этого служил в Красной Армии по 6 декабря 1921 г. и по должности командир полка участвовал в кампаниях»36.
Часто наблюдались ситуации, когда противоречивые решения о выселении напрямую были связаны с общественными задачами, требующими неотложного решения. В данном случае речь шла о ветеринарной помощи и выселении бывшей помещицы Волчанской Марии. В частности, в 1926 г. в Бежицкое УЗУ и Брянский Губисполком было отправлено письмо из Бежицкого Волисполкома о том, что в доме выселяемой бывшей помещицы Волчанской Марии при дер. Кабаличах ВИКом организован ветеринарно-фельдшерский пункт, по организации которого работы все закончены, медикаменты и инструменты закуплены и ветфельдшер должен был приступить к функционированию с 30.03.1926 г. Но ввиду полученных Ваших распоряжений о приостановлении выселения Волчанской, Воли-сполком вынужден пункт ликвидировать, т.к. в распоряжении Волисполкома помещений, расположенных в центре волости не имеется и волость может остаться без ветпомощи. Ввиду вышеизложенного просьба в непродолжительном времени сообщить Волисполкому как поступить в данном случае. Со своей же стороны Волисполком настаивает о выселении помещицы Волчанской»37.
Работа по выселению бывших помещиков часто сопровождалась традиционной нерасторопностью, теперь уже советских, чиновников. 22.07.1926 г. всем Уисполкомам было разослано циркулярное письмо о том, что «несмотря на то, что всем уездным комиссиям известно о том, что работа по выселению бывших помещиков и крупных землевладельцев заканчивается к 1 августа текущего года. Отчетные запросы губернской комиссии уездными комиссиями выполняются слегка, не торопясь или больше этого – вовсе не выполняются, несмотря на неоднократные напоминания. … Данному явлению нужно положить конец и все запросы Губкомиссии немедленно выполнять с тем, чтобы работа по выселению бывших помещиков в основном была закончена в срок, предусмотренный декретом ЦИК и СНК от 20.03.1925 г., т.е. к 1.08.1926 г.»38.
Таким образом, в 1920-е гг. взаимоотношения бывших дворян-землевладельцев и крестьян были достаточно сложными. Так, вышеупомянутый исследователь Д.В. Валуев на основе изучения регионального материала приходит к выводу, что «…очень многие смоленские помещики на протяжении более чем десяти лет после революции проживали в своих имениях и пользовались авторитетом как среди местных жителей, так и у некоторых представителей низовых органов власти. Однако нараставшее давление властей, опиравшихся в проведении репрессивной политики на мнение части населения привело к их постепенной ассимиляции и потере остатков помещичьей субкультуры»39. Однако в целом отношение крестьян к бывшим помещикам было большей частью негативным. Именно распространение таких отрицательных настроений и привело в итоге к выселению многих бывших помещиков из мест их постоянного проживания, лишению права на землепользование и ограничениям в избирательных правах. В итоге в середине 1920-х гг. произошла активизация деятельности по выселению бывших помещиков, что подтверждают архивные материалы. Это было связано как с активностью новой, советской власти, так и стремлением большей части крестьян освободиться от соседства своих бывших и ненавистных угнетателей.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1 Лозбенев И.Н . Выселение бывших помещиков из мест их проживания в регионах Центральной России в 1925-1927 годах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://portalus.ru/modules/different/ rus_readme.php?subaction=showfull&id=1578403028&archive=&start_from=&ucat=&, свободный (Дата обращения: 14.04.2023).
-
2 Кознова И.Е. Сталинская эпоха в памяти крестьянства России. М.: РОССПЭН, 2016. С. 77.
-
3 Там же.
-
4 Сергун Д.Д. Положение помещиков в БССР в 1920-х гг. // Молодежь и XXI век. Материалы 12-й международной молодежной научной конференции. В 4-х томах. Том 1. Курск, 2022. С. 418.
-
5 Баринова Е.П. Советская Россия 1920-х годов на страницах дворянских воспоминаний // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. № 2, 2016. С. 54.
-
6 Никитина Н.Н. Практика выживания бывших помещиков в Советской России в 1917 – 1920 гг. (по воспоминаниям современников) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.liveinternet . ru/users/5672670/post429330227/, свободный (Дата обращения: 14.04.2023).
-
7 Никитина Н.Н. Практика выживания бывших помещиков в Советской России в 1917–1920 гг. (по воспоминаниям современников) // Богословско-исторический сб. Юбилейный вып. Калуга, 2016. С.221.
-
8 Валуев Д.В. «…Местные помещики…по-прежнему владеют своими поместьями»: смоленские помещики после октября 1917 г. // Реформы в повседневной жизни населения России: история и современность. Материалы международной конференции (г. Санкт-Петербург, 02-04 апреля 2020 г.). Т. 2. СПб., 2020. С. 320.
-
9 Там же.
-
10 Лозбенев И.Н. Выселение бывших помещиков из мест их проживания в регионах Центральной России в 1925-1927 годах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://portalus.ru/modules/ different/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1578403028&archive=&start_from=&ucat=&, свободный (Дата последнего обращения: 14.04.2023).
-
11 Кистанов С.В. Уездные органы власти и милиция в борьбе с аграрно-крестьянским движением в Саранском уезде осенью 1917 г. // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2019, № 1(4). С. 17.
-
12 Иванов А.А., Федяева Т.П. Крестьянство на пороге перемен: февраль 1917-июнь 1918 гг. (по материалам Марийского края) // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2021. Т.7, № 1(25). С. 19.
-
13 Государственный архив Брянской области (далее – ГАБО). Ф.507. Оп.1. Д.31 Л.66.
-
14 Соколов-Микитов И. Пыль // Глубокая борозда. Русская деревня в прозе 20 - 30-х годов. Рассказы / Сост., вступ. статья и примечания Н.Д. Ткаченко. М.: Современник, 1987. С. 327-345.
-
15 Соколов-Микитов И. Пыль // Глубокая борозда. Русская деревня в прозе 20 - 30-х годов. Рассказы / Сост., вступ. статья и примечания Н.Д. Ткаченко. М.: Современник, 1987. С. 344.
-
16 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. С. 82.
-
17 Валуев Д.В. «…Местные помещики…по-прежнему владеют своими поместьями»: смоленские помещики после октября 1917 г. // Реформы в повседневной жизни населения России: история и современность. Материалы международной конференции (г. Санкт-Петербург, 02-04 апреля 2020 г.). Т.2. СПб., 2020. С. 319.
-
18 ГАБО. Ф.2329. Оп.1. Д.5. Л.35.
-
19 Валуев Д.В . «…Местные помещики…по-прежнему владеют своими поместьями»: смоленские по-
мещики после октября 1917 г. // Реформы в повседневной жизни населения России: история и современность. Материалы международной конференции (г. Санкт-Петербург, 02-04 апреля 2020 г.). Т.2. СПб., 2020. С. 321.
-
20 ГАБО. Ф.2329. Оп.1. Д.5. Л.90.
-
21 Там же. Л.120.
-
22 Там же. Л.221.
-
23 Там же. Л.91.
-
24 Там же.
-
25 Там же. Л.101-109.
-
26 Там же. Л.50.
-
27 Там же. Л.221об.
-
28 Там же. Л.506.
-
29 Там же. Л.762.
-
30 Там же. Л.311.
-
31 Там же. Л.361.
-
32 Там же. Л.259.
-
33 Там же. Л.113.
-
34 Там же. Л.629.
-
35 Там же. Л.629.
-
36 Там же. Л.682.
-
37 Там же. Л.623.
-
38 Там же. Л.706.
-
39 Валуев Д.В. «…Местные помещики…по-прежнему владеют своими поместьями»: смоленские помещики после октября 1917 г. // Реформы в повседневной жизни населения России: история и современность. Материалы международной конференции (г. Санкт-Петербург, 02-04 апреля 2020 г.). Т.2. СПб., 2020. С. 323.