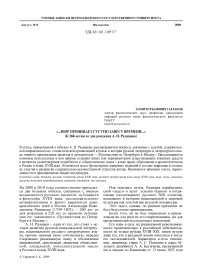«...Взор проницает густую завесу времени...» (к 260-летию со дня рождения А. Н. Радищева)
Автор: Тарланов Замир Курбанович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8 (102), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье, приуроченной к юбилею А.Н. Радищева, рассматриваются вопросы, связанные с судьбой, содержательной направленностью, стилистической организацией и ролью в истории русской литературы и литературного языка главного произведения писателя и просветителя - «Путешествия из Петербурга в Москву». Прослеживаются основные используемые в нем приемы создания новых или переориентации существовавших языковых средств в интересах удовлетворения потребности в «общественном» языке - языке науки, образования и просветительства в России в конце XVIII века. Отмечаются место фольклорных жанровых традиций в составе нарратива и степень их участия в раскрытии содержательно-художественной стратегии автора. Выявляются признаки текста, переводящие его в принципиально новый тип дискурса.
Радищев, русская литература конца xviii века, русский литературный язык конца xviii века, стиль, языковые средства, традиции, инновации, тип дискурса, язык, языковые новообразования
Короткий адрес: https://sciup.org/14749625
IDR: 14749625 | УДК: 821.161.1.09"17"
Текст научной статьи «...Взор проницает густую завесу времени...» (к 260-летию со дня рождения А. Н. Радищева)
На 2009 и 2010 годы соответственно приходятся два больших юбилея, связанных с именем выдающегося русского писателя, публициста и философа XVIII века, последовательного антикрепостника и яркого выразителя демократических идей в России Александра Николаевича Радищева (1749–1802), – 260 лет со дня рождения и 220 лет со времени публикации его знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву».
А. Н. Радищев – один из тех, кто стоял у истоков развития русской национальной литературы, национального русского литературного языка, прочно занимая свою собственную, нередко откровенно рискованную нишу в обозначении направлений, ориентаций движения общественной, социальной, интеллектуальной мысли в России в конце XVIII века.
Идя опасным путем, Радищев нарабатывал свой «задел» в залог успехов бурного и потрясающе плодотворного русского XIX столетия, вошедшего в историю национальной и мировой культуры как золотой век русской литературы.
Этот задел, однако, по разным причинам не был безусловно принимаемым.
Более того, он не был очевидным и приемлемым ни для многих его современников, ни для представителей последующих поколений.
Его идеи в силу их радикальной революционности применительно к российской действительности не только рубежа XVIII–XIX веков пугали даже тех, кто в реальной жизни относился к числу его последователей. Характерен в этом отношении, например, упрек А. С. Пушкина в адрес будущего декабриста А. А. Бестужева, высказанный им в письме из Кишинева от 13 июня 1823 года
в связи с содержанием его статьи по истории русской литературы, в которой А. Н. Радищеву не нашлось места: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание не простительно ни тебе, ни Гречу – а от тебя его не ожидал» [5; 51].
Хотя позже Пушкин давал несколько другую оценку Радищеву, в том числе и за его, как он считал, «слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему», за его «горькое злоречие», раздражавшее «верховную власть» [4; 379], тем не менее в ранних суждениях поэта исторически адекватно была замечена роль Радищева в качестве важного сигнала о пробуждении таких глубинных сил России, которые еще не проявились, но должны проявиться.
Именно от Радищева, первым изобразившего народ в художественной литературе и сделавшего русского крепостного ее героем [3; XXVIII], ведется одна из важнейших линий великой русской литературы, на которой так или иначе располагаются не только декабристы и Белинский, революционные демократы и Герцен, разночинцы, Некрасов и представители «тенденциозной» поэзии, не только Горький и последующая советская литература, но и те, кто к этой линии непосредственного отношения не имеет. Подтверждение тому и ранние редакции стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», в котором прямо утверждалось: «Вослед Радищеву восславил я свободу» [6; 339].
Жизнь народа, горькая доля крепостного человека во всю ширь выведены им в его «Путешествии из Петербурга в Москву», которое А. С. Пушкин называл «причиной его несчастия и славы» [4; 379]. После издания небольшим тиражом самим автором в 1790 году оно было под запретом и не публиковалось вплоть до 1905 года.
Что именно народ занимает в нем центральное место, видно уже из его композиционного строения.
Во-первых, оно начинается и завершается обращениями к «любезнейшему другу» и «любезному читателю».
Ключевой в начальном обращении является фраза « Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала » [7; 61; далее – страницы в тексте по этому изданию в круглых скобках]. Все дальнейшее повествование – это описание «страданий человечества».
Ключевая же фраза в финальном обращении построена как конструкция представления и не содержит явного суждения, а в композиционной структуре соотносительна с первой фразой, являясь как бы эмоциональной реакцией на нее.
Во-вторых, путешествующего со следующей же станции после выезда из Петербурга сопровождает «заунывная» народная песня, которая звучит то в устах извозчика («София»), то слепого старика («Клин»), то в устах матери и невесты, переходя в плачи по сыну и возлюбленному, отдаваемому в рекруты («Городня»), и т. д.
В-третьих, безусловно примечателен и тот факт, что замыкает повествование путешественника знаменитое «Слово о Ломоносове», о самородке, о выходце из народной среды окраинной России, ставшем гордостью Отечества.
Ломоносов предстает в нем не только как ярчайшее свидетельство огромных возможностей, заложенных в простых людях, но и как символ веры в будущее народа. Поэтому не случайно «заунывная песня извозчика», «душевная скорбь», неотделимая от народной песни, к тому же по настроению недалеко отстоящей от жанра плача, перед «Словом о Ломоносове» трансформируется в возвышенно-торжественную песнь: «Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу » («Черная грязь», с. 189. Курсив мой. – З. Т .).
Исследователи творчества Радищева справедливо указывали на то, что «в решении своей новаторской задачи писателя-революционера» он «опирался главным образом на песню» [3; XXXI]. Это безусловно так. Вместе с тем очевидно, что роль песни как жанра существенна в целом в решении собственно художественных задач повести, о чем свидетельствуют и используемые писателем внутрижанровые переходы, как, впрочем, и возможности других жанров – сказок, пословиц, поговорок, молитв и т. д.
В то же время «в “Путешествии” показана вся Россия, все слои общества, от крестьянина до царя, затронуты все основные вопросы социального, политического, культурного ее бытия. Радищев говорит о крепостном праве, о монархии, о бюрократии, о сословной гордости дворянства, о моральных основах и быте различных классов, о купцах, о вексельном законодательстве, о проституции, о педагогике, о поэзии и т. д. и т. д.» [2; XLIX].
Но центральная тема «Путешествия» – крепостничество. Все остальные темы производны от нее. И все они разработаны подробно и самобытно.
О степени самобытности, тщательности Радищева, испытавшего на себе значительное влияние западной, особенно французской, философско-правовой мысли, можно судить, в частности, по его «Слову о Ломоносове», в котором последовательно разложены все составляющие творчества поэта и ученого, включая и вехи его биографии: рождение в простой семье рыбака, «алчное любопытство», поездка «в престольный град», «познание языков» как «преддверия учености», приобщение через языки к поэзии, литературе, философии, к «уловкам искусства», к «частому чтению церковных книг», положившему «основание изящества» его слога, овладение ступенями «во храм целомудрия» – логикой, математикой, метафизикой, химией, металлургией и минералогией, сущностью денег в качестве эквивалента в торговле, естествознанием и природоведением, продолжая заниматься также поэзией и стихотворством на основе «благогласия языка нашего», грамматикой, риторикой и т. д., в то же время оставляя «примеры в своих творениях» [7; 190–195].
Это значит, как справедливо писал Гр. Гуковский, что «именно Радищеву принадлежит первая большая критико-биографическая работа о русском писателе» [2; LIII].
Более того, «Словом о Ломоносове» Радищев демонстрирует прекрасный и пионерский образец масштабного обзорного анализа научного и художественного творчества крупнейшего деятеля национальной культуры, облекая его в форму блестящей лекции, не уклоняясь при этом от принципов объективности и не впадая в панегиризм. Воздавая должное гению Ломоносова, Радищев вместе с тем не завидует ему, в частности, и за то, что тот «льстил похвалою в стихах Елисавете» (с. 196).
Заслуга А. Н. Радищева состоит и в том, что, охватывая в своем «Путешествии» обширный круг явлений общественной, государственной жизни и жизни простых людей своего времени, делая их объектами остро публицистического и литературно-художественного изображения, он вместе с тем по необходимости практически разрабатывал и проблемы литературного языка в наиболее противоречивый период его истории, изыскивая свои пути к его обогащению, нормированию и упорядочению.
Между тем работами, в которых обобщалась бы роль Радищева в этом направлении, мы не располагаем, хотя общие оценки этой роли высказывались не раз.
Так, Гр. Гуковский утверждал, что «у Радищева нет единого общего для всех его произведений или даже единого для целого произведения стиля. “Путешествие” заключает различные куски и в отношении языка» [2; LIV]: 1) сцены, написанные разговорным языком, реалистичные и по стилистике; 2) отрывки, написанные более высоким стилем, более литературным языком (рассказ о сестрорецких путешественниках в главе «Чудово»); 3) места, где речь идет о политике, философии, правах человека и гражданина и т. д., используется славянский, оратор-ски-страстный язык [2; LIX].
Получается, таким образом, что «Путешествие» характеризуется своеобразной стилистикоязыковой мозаикой, предопределяемой темой и ситуацией описания.
Согласно В. В. Виноградову, в прозе Радищева, в том числе и в «Путешествии из Петербурга в Москву», церковнославянизмы «непринужденно, без всяких стилистических мотивировок и маскировок, помещаются рядом с разговорными русизмами и смешиваются с формами живой устной речи образованного общества, с выражениями простонародного языка и крестьянского фольклора» [1; 161], которые нередко используются кстати и весьма красочно (глава «Городня»). В целом В. В. Виноградов характеризует не столько язык и стиль «Путешествия» в их совокупности, сколько употребление и сочетаемость собственно лексических его средств.
Лексике «Путешествия из Петербурга в Москву» посвящена и отдельная основательная работа
-
Н. Ю. Шведовой, в которой прослеживаются лексико-фразеологический идиостиль Радищева и используемые им способы создания общественно-политической терминологии [8]. В ней ставится вопрос также о радищевском стиле в целом, и в качестве важнейшей его особенности выделяется «его общая риторическая приподнятость, обусловленная постоянным стремлением воздействовать на гражданское сознание... читателя» [8; 49].
Едва ли, однако, возможно адекватно квалифицировать стиль «Путешествия из Петербурга в Москву», оставаясь на позициях, согласно которым оно состоит из «различных кусков».
«Путешествие» представляет собой органичное целое, о чем свидетельствуют не только строго выдержанное единство жанра, сквозной персонаж-повествователь, но и композиционно соотнесенные между собой в начале и конце произведения ключевые текстообразующие выражения, а также синтаксические и словообразовательные изоформы, которым открыты все его главы.
К их числу относятся прежде всего сложноподчиненные конструкции с характерными постпозитивными атрибутивными группами, преобладающие на всем протяжении повествования, дательные самостоятельные, именительные с инфинитивом (кальки nominativus cum infinitivo), а также отглагольные субстантивы и субстантивные построения разного объема и некоторые другие. Такова, например, следующая конструкция из начальной главы («София»), содержащая комментарий к рядовой народной песне: Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее (с. 63). Впрочем, подобные конструкции далеко не чужды и репликам диалогического толка. Ср. следующую конструкцию, завершающую развернуто вербализованную внутреннюю речь повествователя, имеющую конкретного адресата: - Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение («Любани», с. 67).
Хотя в языке «Путешествия» представлены стилистически разнородные слова и выражения, локализовать их достаточно точно по соответствующим главам или формам речи – диалогической и монологической – сложно. Монолог в качестве собственно литературной формы речи не закрыт для текстовых фрагментов с разговорными и просторечными элементами. Ср., например: Окончать не мог моея речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады («Чудово», с. 73); А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он («государев наместник». - З. Т .) к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать («Спасская полесть», с. 74).
В этом случае показательна не только лексика, включая также союзное средство и часть сказуемого как, но в целом заключительная конструкция в ее отношении к предыдущей. С другой стороны, вполне по нормам книжного стиля строятся диалогические высказывания, о чем уже говорилось. Ср. также: В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне... (Там же, с. 78).
При всем том, что «Путешествие из Петербурга в Москву» достаточно полно и объемно отражало важнейшие процессы, которые происходили в русском литературном языке XVIII века: расширение его фактической базы за счет народно-разговорных и просторечных элементов, целенаправленное использование в литературе художественных средств и приемов жанров устнопоэтического творчества – песен, сказок, пословиц, плачей, молитв и т. д., семантикостилистическое ассимилирование западноевропейских заимствований, разного рода калек, поиски путей синтеза историко-генетически и стилистически разнородных языковых форм и под. – тем не менее оно стояло особняком в литературе своего времени именно потому, что в нем предлагался принципиально иной, новый словесно-художественный дискурс.
Этот дискурс не предназначался для бытописания, для описания судеб или жизни отдельных людей, семей, для раскрытия любовных или каких-то иных чувств, живописания природы и т. д. Он предназначался лишь одной цели – быть формой реализации смысла стержневого тезиса «Путешествия»: «Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями человечества уязвленна стала ».
Поэтому дискурс «Путешествия» как таковой един. Это напряженный, энергично нацеленный антикрепостнический монолог, прерываемый сценами на почтовых станциях; связанными с ними как бы спонтанными событиями, которые призваны до предела нагнетать его обвинительную мощь и убедительность, – монолог в пользу свободы личности и гражданина.
В процессе повествования меняются его ракурсы, образуя сложную гамму настроений, по нарастающей свидетельствующих о естественной необходимости перестроить существующий несправедливый порядок. Соответственно созерцательность переходит в сострадание, сострадание – в возмущение, возмущение – в защиту обездоленных и в обвинение крепостничества со всеми его опорами.
Наконец, все это завершается прекрасным словом-лекцией о том, чего может достичь свободный человек, которому представилась возможность раскрыть его природные способности («Слово о Ломоносове»).
Стержнем всех этих переходящих друг в друга монологов является прежде всего синтаксис, совмещающий в себе сложную структуру высказываний в сочетании с архаикой, субстантиво-центричными оборотами, развернутыми вокатив-ными построениями, инверсией типизированных атрибутивных групп с аккордно расположенными причастиями, кальками из европейских языков и риторическими приемами латинско-немецких периодов, ср.: Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд («Спасская полесть», с. 78); Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата и природе совершенно подражающих (Там же, с. 79); Если, идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, восхочет меня им пронзить, - убийцею ли я почтуся, если я предупрежду его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? («Зайцево», с. 102); Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его (кре-стецкого дворянина. - З. Т.) ямками, в женщинах столь прельщающими («Крестьцы», с. 108); Не даждь, владыко всещедрый, не даждь им скита-тися за милостынею вельмож и обретати в них утешителя! Да будет соболезнуяй о них их сердце; да будет им творяй благостыню их рассудок (Там же, с. 109); или расстание вместо расставание (Там же, с. 109, 119); надежное радование вместо радость (Там же, с. 1 19); В одну из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился через валы на зрение своей любезной, внезапу восстал ветр, ему противный, будущу ему не среде пути его («Валдай», с. 123) и т. д.
Такое совмещение разнотипных языковых средств было совершенно по-другому воспринято А. С. Пушкиным, считавшим «Путешествие из Петербурга в Москву» «очень посредственным произведением» с «варварским слогом» [4; 379].
Однако, по мысли А. Н. Радищева, именно таким свободным слогом, но ориентированным на старину и книжные традиции, и можно было наиболее ярко выразить те антикрепостнические идеи, которые и были целью произведения.
Слог Радищева поэтому пульсирует, варьируется в диапазоне от нейтрального, спокойного и плавного до напряженно-риторического в разных его реализациях.
Нейтральный слог, в свою очередь, также расслоен. Здесь отчетливо прослеживается, по крайней мере, слог собственно нарративный, художественно-повествовательный , которым оформлен, например, рассказ о сестрорецких путешественниках («Чудово»), и слог научно-повествовательный, слог научной прозы , убедительно продемонстрированный в «Слове о Ломоносове». И тот, и другой в русской прозе XVIII века лишь намечались. Вклад Радищева здесь очевиден.
Выражая возмущение сценой отдачи в рекруты трех молодых людей, проданных их хозяином-помещиком, чтобы выручить деньги на новую карету, и представляя себе, какие бы «великие мужи для заступления избитого племени» «ис-торгнулися» из среды этих продаваемых «как скоты», рассказчик видит «густую завесу времени», разводящую его мечты и реальность. Поэто- му он с горечью признается: «... Взор проницает густую завесу времени...» («Городня», с. 179).
Для выражения идей Радищева, опережавших его время, как он сам считал, на «целое столетие», ему нужны были язык и слог, отличные от обыденных средств коммуникации.
Такими и являются язык и стиль его «Путешествия из Петербурга в Москву».
Примечательно и то, что в нем почти нет заимствований, хотя именно рубеж XVIII–XIX веков был для русского литературного языка периодом почти неограниченного использования западноевропейских заимствований.
Это результат сознательного решения Радищева, убежденного западника, – избегать их, стремясь к обеспечению самобытности русского литературного языка, который, как он считал, вполне может обходиться лишь собственными возможностями на пути к «общественному языку».
Эта мысль выражена писателем словами «нового знакомца» путешественника – мыслящего новгородского семинариста, шедшего «пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате»: « – Но для чего, – прервав, он свою речь продолжал, – для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавалися науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение. <...> Как не потужить, – повторил он, – что у нас нет училищ, где бы науки преподавалися на языке народном» («Подберезье», с. 88).
Чтобы существовали училища, в которых бы «науки преподавалися на языке народном», этот язык необходимо создать, обогатить новыми выразительными средствами, считал Радищев.
Именно этим обстоятельством подкрепляется тот факт, что он создает много новых абстрактных слов-субстантивов отыменного, отглагольного происхождения, глагольных, причастных и деепричастных и т. д. форм, последовательно используя принцип аналогии, действующий как в русском, так еще в большей степени и в книжно-славянском языках, ср.: маркизство, хвастовство, неизмеримость, единозвучность, шественное движение, чрезестественные (силы), воспоминовение, намерялся, уподроблю (сделать подробным рассказ о происшествии), упоялся (негою), средиденный (зной), властнодержавная (десница), расстание, родший (родивший), (она становится) присутственна, остановлял, (вы) вождаетесь (рассудком), согрение (моей дружбы), (правила) единожития и общежития, ос-тановляться, раскаяваться, показующий, радо-вание, намерялся, некакие (какие-то) крестьяне, отличествовати (внешностью), (другие) свобод-ствуют, в побеждении предрассуждений и т. д.
Все приведенные и подобные случаи свидетельствуют, таким образом, не столько о намеренном смешении в «Путешествии из Петербурга в Москву» народно-разговорных и книжнославянских языковых средств, сколько о последовательном созидании новых либо переориентации уже существующих средств с ориентацией на книжно-славянский язык для удовлетворения нарождающихся общественных потребностей, связанных с развитием науки, образования и в целом просветительства в России в конце XVIII века.
Список литературы «...Взор проницает густую завесу времени...» (к 260-летию со дня рождения А. Н. Радищева)
- Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1982. С. 159-163.
- Гуковский Гр. Вступительная статья//Русская литература XVIII века/Редакция, вступительная статья и примечания Гр. Гуковского. Л.: Изд-во художественной литературы, 1937. С. VII-LXIII.
- Макогоненко Г.П. Жизнь и творчество А. Н. Радищева//Радищев А. Н. Избранные сочинения/Подготовка текста и вступительная статья Г. П. Макогоненко. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952. С. III-L.
- Пушкин А.С. Александр Радищев//Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М.: Изд-во художественной литературы, 1950. С. 372-383.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Т. X: Письма. Л.: Наука, 1979. С. 51.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Т. III. Л.: Наука, 1977. С. 339.
- Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву//Радищев А.Н. Избранные сочинения/Подготовка текста и вступительная статья Г. П. Макогоненко. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952. С. 61-199.
- Шведова Н.Ю. Общественно-политическая лексика и фразеология в «Путешествии из Петербурга в Москву» A.Н. Радищева//Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. II/Отв. ред. академик B.В. Виноградов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 5-54.