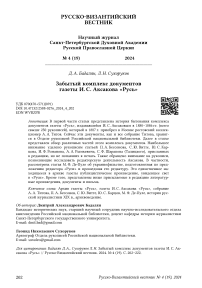Забытый комплекс документов газеты И. С. Аксакова «Русь»
Автор: Бадалян Д.А., Сухоруков Л.Н.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
В первой части статьи представлена история бытования комплекса документов газеты «Русь», издававшейся И. С. Аксаковым в 1880-1886 гг. (всего свыше 250 рукописей), который в 1887 г. приобрел в Москве ростовский коллекционер А. А. Титов. Сейчас эти документы, как и все собрание Титова, хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Далее в статье представлен обзор различных частей этого комплекса документов. Наибольшее внимание уделено рукописям статьей П. А. Бессонова, С. Ю. Витте, Ю. С. Карцова, И. Ф. Романова, А. А. Рымкевича, С. Ф. Шарапова (Талицкого), присланных в редакцию, но не попавших в печать. Также обращено внимание на рукописи, позволяющие исследовать редакторскую деятельность Аксакова. В частности, рассмотрена статья М. Ф. Де-Пуле об украинофильстве, подготовленная по предложению редактора «Руси» и прошедшая его редактуру. Это единственное находящееся в архиве газеты публицистическое произведение, увидевшее свет в «Руси». Кроме того, представлены иные присылаемые в редакцию литературные произведения, документы и письма.
Архив газеты «русь», газета и. с. аксакова «русь», собрание а. а. титова, п. а. бессонов, с. ю. витте, ю. с. карцов, м. ф. де-пуле, история русской журналистики xix в, архивоведение
Короткий адрес: https://sciup.org/140308450
IDR: 140308450 | УДК: 070(470+571)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_202
Текст научной статьи Забытый комплекс документов газеты И. С. Аксакова «Русь»
Leonid Nikolaevich Sukhorukov
Archeographer of the Department of Manuscripts at the National Library of Russia.
Исследователи славянофильства знают, что полноценное его изучение весьма и весьма затруднительно без обращения к архивным документам. В наибольшей

ГОДЪ ТРЕТ1Й.
1 шля
Иль Риги (, Стихи В. С.
Носил, 1 ими.
Вот» уже я годв. ив* Скобелева к стало... Годв. а скорбь обв его безвременной воатняВ таив же жива, такою
Св Лнтеасло Русская Оврании
У людеа народа—иееомн1иж>; вв обвлс-
«йсвое обрааоиий м noate а.» «хранить вв«61 полноту духовно* свободы.
Ип Джеи. Юрмаеа. г. Псам в. г,4.
Ливы* люди iaioiei*«ai«). Круглеа*
Синайское ебо>р1ме-
Кв встали упразднены криостеаго врана ев Пермской губарнЬ. б. С. «в ауев1мвквь
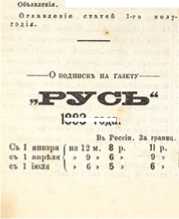
1883 года.
народности, вс вытравило ж им го, испи-ерсдетаеннэго pyeewro чувства, единив еловом*—не отдала иль вь подоив тому жалному моемой мята псу. той самодовольной. либеральны» а коксераативваго во-ашба мудрости (ей же вея цйва грошв), которыми украшаются прсамувкствеаво ваши вытопи обенсетвеквык вв Петербурга сееры, за немногими иеключеншма... Впречсмв аамВчателыю, что и вв Сахой Моеквй,941мя вь день ромовой го девчины , вло всего Москонсмго городежаго на-
ствсмво отслужили ааупокайную службу от» имена всего своего e«ao>ia. вред* мрителмю ооовВстмвь о тома ив гак-
сбирго ратьВада иль Моеввы, по медосмотру ли. только намь ооовцыдьиый
Газета «Русь» И. С. Аксакова
степени это, пожалуй, относится к исследованиям деятельности братьев Константина и Ивана Аксаковых. Ведь свидетельствами ее являются многие сотни рукописных источников, из которых еще далеко не все введены в научный оборот.
Среди архивных собраний, в которых сконцентрирована основная масса документов семьи Аксаковых, самое обширное — в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Там в фонде 3 собраны 2438 документов, так или иначе связанных с кем-либо из членов этой семьи1. Второе по объему, включающее 721 единицу хранения, — это фонд 10 в Российском государственном архиве литературы и искусства. Более ограниченный характер имеет фонд 14 в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ). Там находится 673 источника, значительная часть которых связана с деятельностью И. С. Аксакова в Московском Славянском благотворительном комитете (с 1877 г. — обществе) и, более всего, во время Балканского кризиса 1875–1878 гг.2
Однако далеко не все специалисты-аксаковеды знают о том, что в РНБ на-
ходится еще один комплекс документов, непосредственно связанных с деятельностью И. С. Аксакова. И хотя из его существования не делалось секрета, в полной мере в научный оборот он был введен лишь в 2016 г. Тогда один из авторов этих строк, Л. Н. Сухоруков, сделал доклад «Архив газеты “Русь” в собрании А. А. Титова Отдела рукописей РНБ» на научной конференции, посвященной И. С. Аксакову3. В этом докладе впервые был представлен общий обзор документов, связанных с газетой «Русь», последним изданием И. С. Аксакова, выходившим с ноября 1880 по март 1886 г.4 Также была кратко изложена история бытования этого архива: спустя более года после кончины издателя газеты его приобрел ростовский предприниматель, коллекционер и историк Андрей Александрович Титов (1844–1911), и уже в составе его собрания он был передан в Отдел рукописей Публичной библиотеки (ныне РНБ).
Подчеркнем: архив газеты «Русь» представляет собой не отдельный фонд, а лишь его часть. Фондом же является все собрание Титова (Ф. 775)5. Для первоначальной систематизации своего собрания Титов вел «Охранный каталог», в котором давал краткое описание каждой рукописи и ее порядковый номер, присвоенный при поступлении. Каталог он печатал небольшим тиражом на правах рукописи, и уже на момент составления следующего выпуска предыдущий становился библиографической ред-костью6. В предисловии к первому выпуску «Охранного каталога» Титов подчеркнул, что не ставит своей целью подробное описание рукописей, и каталог имеет «характер лишь подготовительного пособия к ученому их описанию»7. Всего вышло шесть выпусков «Охранного каталога» с 1881 по 1895 гг., охватывающих 4506 единиц хранения8.
В 1900 г. Титов решил передать свое собрание в Императорскую Публичную биб-лиотеку9. Перевозка рукописей из Ростова в С.- Петербург заняла много времени, и только к 1915 г. основная часть собрания была передана и поставлена в отдельные шкафы, изготовленные по заказу Титова. В эту часть собрания вошли рукописи, описанные в систематическом каталоге, другие же остались в Ростове и вошли в состав фондов Ростовского музея древностей. Оставшаяся часть собрания была передана в Публичную библиотеку в 1947–1954 гг.
Впервые неполный список материалов, имеющих отношение к газете «Русь», был опубликован в 1953 г. в обзоре рукописей собрания Титова, поступивших в 1947 и 1950 гг.10 Здесь, помимо общей характеристики этой части собрания, был перечислен 21 сборник и дано их краткое описание. Однако эта публикация, увы, осталась незамеченной ни одним исследователем славянофильства или истории журналистики. В последующие годы ученые обращались только к одному документу — речи З. С. Манюкина-Неуструева, — поскольку он был учтен в печатном каталоге материалов Отдела рукописей по истории балканских славян11. Лишь Я. Е. Смирнов в 2001 г. в монографии и в 2014 г. в диссертации, посвященных деятельности А. А. Титова, указал, что в его собрании находится архив редакции газеты «Русь». При этом он подчеркнул, что Титов «предпринял необходимые усилия, чтобы сохранить редакционный архив этой московской газеты, имеющий непреходящее значение для изучения течений в истории русской общественной мысли»12.
После представленного в 2016 г. доклада Л. Н. Сухорукова начал развиваться процесс исследования и введения в научный оборот отдельных документов архива «Руси»: в том же году Д. А. Бадалян процитировал хранящееся в этом архиве письмо к Аксакову великой княгини Александры Петровны (в иночестве Анастасии) от 11 января 1884 г.13, а в 2023 г. О. Л. Фетисенко осуществила первую публикацию источников из этого архива14.
В ходе работы над этой статьей нам удалось расширить список сборников, включающих в себя документы аксаковской газеты. Сделано это благодаря, во-первых, хранящейся в ОР РНБ картотеке Н. Н. Розова, в которой систематизированы материалы собрания, а во-вторых, — просмотру сборников собрания и владельческих помет Титова на них. Таким образом, в настоящий момент выявлено 29 сборников, содержащих материалы «Руси»15.
Когда и как архив «Руси» попал к Титову? Ответить на первый вопрос можно, основываясь на записях, оставленных владельцем на переплетах трех входящих в это собрание томов. В них сообщается, что бумаги эти были куплены в Москве 5 июля 1887 г. (ОР РНБ. Ф. 775. Ед. хр. 2938, 3074, 3082)16, т. е. более чем через год после прекращения деятельности редакции «Руси». Гораздо сложнее объяснить, как именно они оказались у Титова. С уверенностью можно сказать, что ни вдова издателя А. Ф. Аксакова17, ни его младший товарищ Д. Ф. Самарин, который до 30 апреля 1886 г. занимался делами по закрытию издания (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 1–4 об.), не стали бы продавать бумаги аксаковской газеты.
Мог ли поступить так А. Д. Давидович, который в последние годы издания «Руси» выполнял обязанности секретаря редакции18, сказать сложно. Как будет видно из дальнейшего описания доставшихся Титову бумаг, в целом они представляют материалы, которые по разным причинам были отклонены редактором и не попали в печать, а также — часть из многочисленных, приходящих к редактору «Руси» писем. Вполне возможно, в редакции к этим рукописям относились как наименее ценным и после кончины редактора забыли про них (трудно представить, что их выбросили, не подвергнув предварительному просмотру, который эти бумаги явно не прошли). И уже некое постороннее Аксакову лицо продало их оптом без разбора какому-то букинисту.
Последнее обстоятельство мы предполагаем потому, что торговцы старой книгой часто служили для коллекционеров, подобных Титову, посредниками в приобретении отдельных рукописей и целых собраний. Так, сам Андрей Александрович рассказывал в письме И. В. Помяловскому 13 января 1888 г.: «Бывши в Москве, я случайно купил короб (10 [пачек]) бумаг из редакции “Моск[овских] вед[омостей]” у букиниста. В числе хлама, попалось немало автографов известных лиц. Все еще не разобрал, надеюсь и в других пачках отыскать пригодное для своего собрания» (ОР РНБ. Ф. 608. Оп. 1. Ед. хр. 1324. Л. 62 об.).
Бумаги «Руси» Титов, очевидно, получил в россыпи, и уже после этого он заказывал для них переплеты. По заведенному коллекционером обычаю, он оставлял на переплетах записи о времени и месте, а иногда и об обстоятельствах покупки. Как уже было отмечено, на трех из них была проставлена одна и та же точная дата приобретения. На остальных сохранились либо записи вроде: «Редакция Руси», «Посланы в редакцию Руси» и т. п., либо даты от сентября–октября 1887 г. Вероятно, они относятся к внесению рукописей в «Охранный каталог».
Ни в опубликованных Титовым статьях, ни в его письмах (он вел обширную переписку, в которой сообщал друзьям и коллегам о новых приобретениях) на сегодняшний день не выявлено никаких упоминаний об архиве «Руси». Остается предположить, что сам коллекционер относил его к «мелочным покупкам у антиквариев и букинистов»19.
При изучении этого архива становится видно: часть его владелец систематизировал по содержанию, а часть — по формату. Вероятно, Титов, проявлявший живой интерес к народной культуре, в первую очередь собрал под отдельными переплетами стихотворные произведения нескольких крестьян: «Стихотворения Ковровского виршеплета, крестьянина Мытарева» (Тит. 3050), «Стихотворения крестьянина Петра Горбунина» (Тит. 3058), «Стихотворения крестьянина Груздева» (Тит. 3095). На переплетном листе сборника стихотворений крестьянина Мытарева владелец собрания даже оставил пространную запись о том, что «в последнее время поэтов-крестьян расплодилась тьма-тьмущая», а сам он участвовал в издании сочинений «подобного же поэта» вместе со своим другом П. Ф. Морокиным20.
Кроме крестьянских стихотворений Титов выделил «Стихотворения разных сочинителей ненапечатанные» (Тит. 2938), письма в редакцию «Руси» некоего Ф. Т.
(Тит. 3043), «Ответы Орловского губернатора Боборыкина на запрос г-ну министру внутренних дел» (Тит. 3074), «Мнение Орловского губернатора по поводу сокращения пьянства» (Тит. 3153), воспоминания неизвестного об учебе в семинарии и затем в Киевской духовной академии (Тит. 3082), «Несколько слов о духоборцах П. Б–ова» (Тит. 3143, подробнее об этой рукописи — далее в статье) и «Стихотворения А. Мейснера» (Тит. 3159). Все остальные материалы были, вероятно, систематизированы и переплетены владельцем уже по формату, и описаны они в «Охранном каталоге» как «Сборник. Разных почерков скорописью XIX в.».
В ходе изучения материалов архива «Руси» нам удалось выделить более 250 документов за 1880–1886 гг.21, при этом наибольшая их часть относится к 1881–1884 гг., а самое весомое их число — 68 рукописей — к 1884 г. Большая их часть — это публицистические статьи, письма в редакцию, стихотворения и рассказы, присланные в «Русь» и не принятые Аксаковым к публикации. Кроме того, в этом комплексе документов есть и письма к редактору, большая часть из которых — сопроводительные к присылаемым материалам. Другая часть писем носит иной характер, они содержит различные просьбы, связанные с газетой, или же реакцию на опубликованные материалы, вопросы о публикации ранее присланных статей и т. д.
Среди писем просителей можно отметить письмо священника Кирилла Дроппы от 11 июля 1884 г. о назначении его «попом лютеранским между словаками» в штате Иллинойс, в связи с чем тот просил высылать номера газеты «Русь» для изучения русского языка (Тит. 3123, л. 31–32 об.); письмо известного авантюриста Н. И. Аши-нова от 30 мая 1884 г. из Сухум-Кале с просьбой о материальной поддержке и предложением назвать одно из основанных им поселений в честь Аксакова (Тит. 3163, л. 35–36 об.)22. Интересно и недатированное письмо П. Н. Батюшкова (давнего знакомого Аксакова и автора «Руси») с просьбой упомянуть в газете изданный им новый выпуск «Памятников русской старины в западных губерниях» (Тит. 3169, л. 38–38 об.). Это издание вышло в восьми выпусках. Из них только два последних, увидевшие свет в 1885 г., пришлись на период существования «Руси». В качестве отклика на седьмой выпуск «Памятников» можно рассматривать напечатанное в газете «Письмо в редакцию», подписанное криптонимом «У.»23.
Кроме этого, особенно стоит отметить послание вел. кн. Александры Петровны от 11 января 1884 г. из Киева, где она жила после того, как ее муж вел. кн. Николай Николаевич (старший) изгнал ее из С.- Петербурга. Александра Петровна обращается к Аксакову со словами поддержки курсу газеты «Русь», пишет о своей жизни в Киеве24. Это письмо также сопровождено атрибутивной пометой Титова и проложено листами тонкой бумаги для сохранности, что, конечно же, говорит об особом внимании коллекционера к автографу представительницы царской фамилии.
Около трети документов архива газеты занимают присланные в «Русь» статьи. Среди их авторов одно из самых известных имен — С. Ю. Витте. Ему принадлежит рукопись «По поводу статьи г. Талицкого “Высокий курс и высокий процент”», датированная 10 января 1885 г. (Тит. 3172, л. 76–79 об.). Талицкий — псевдоним С. Ф. Шарапова, едва ли не самого активного сотрудника «Руси», часто выступавшего в ней по экономическим вопросам25. Факт сотрудничества будущего премьер-министра с аксаковской газетой — не новость26. Однако до сих пор была известна лишь одна его статья, предназначенная для публикации в «Руси». Это «Мануфактурное крепостничество», вышедшая в свет в январе 1885 г.27 Вероятно, вслед за ней Витте направил Аксакову работу, посвященную полемике с Талицким (Шараповым), который ратовал за «дешевый рубль». Оспаривая его мнение, автор статьи утверждал: «Дело не в том, чтобы рубль был дешевый, а в том, чтобы металлическая его ценность была ниже вещной. Дешевый же рубль, когда его металлическая ценность выше вещной, может привести к экономическому порабощению страны иностранцами» (Там же, л. 77).
После публикации в «Руси» первой статьи Витте вышло еще три номера, и в последнем из них, увидевшем свет 9 февраля, появилось объявление о приостановке газеты из-за болезни ее редактора-издателя. Следующие полгода (до 17 августа) «Русь» не выходила. Можно было бы предположить, что новая статья Витте не попала в печать именно из-за столь длительного перерыва. Однако 31 августа, спустя две недели после возобновления издания, в нем появилась публикация «По поводу статьи г. Талицкого — “Высокий курс и высокий процент”»28 (с ответным «Примечанием» самого Талицкого29). Тем не менее это была совершенно иная статья, имевшая подпись «Александр Рымкевич».
Судя по словам Витте в начале рукописи: «Согласно вызову редакции, я позволю себе представить мои посильные суждения…» (Там же, л. 76), он взялся за перо по заказу Аксакова. Однако эта статья не удовлетворила редактора «Руси» (напомним, автор ее служил тогда начальником эксплуатации Юго-Западных железных дорог, а через восемь лет стал министром финансов и затем — разработчиком финансовой реформы, в результате которой введен золотой монометализм). Аксаков заказал новую статью другому автору. Им стал не экономист, а военный, подполковник Генерального штаба А. А. Рымкевич, к тому времени — составитель пособий по арифметике, а позднее — по русской грамматике, строевым учениям и проч. Ни прежде, ни после имя его в «Руси» не появлялось.
В таком случае уместен вопрос: быть может, это не Аксаков отказался от помещения статьи Витте, а сам он, не дожидаясь возобновления «Руси», предпочел напечатать ее в другом издании? Таковым, скорее всего, могла стать газета «Московские ведомости» под редакцией М. Н. Каткова, для которой, по позднейшим рассказам самого Витте, в то время он «иногда писал»30. И, действительно, в просмотренных нами вплоть до конца июня 1885 г. номерах газеты оказались две подписанные именем Витте публикации31, но его статьи, посвященной полемике с автором «Руси», мы в ней не обнаружили.
Тогда уместно предположить, что рукопись Витте была отвергнута редактором-издателем «Руси». Чем именно его не удовлетворила работа будущего творца финансовой реформы, в результате которой Россия получила твердую валюту? Это вопрос, скорее, для специалистов по истории экономической мысли.
Мы можем лишь добавить, что после того как Талицкий (Шарапов) вступил в дискуссию с Рымкевичем, тот подготовил «Ответ на замечания Талицкого к заметке Рымкевича в № 9 “Руси” по поводу статьи Талицкого “Высокий курс и высокий процент”» и прислал его в редакцию вместе с письмом, датированным 10 января
1886 г. (Тит. 3173, л. 150–152 об.). Автор письма подчеркнул, что ранее (вероятно, сразу по прочтении замечаний Талицкого) он посылал в редакцию свое «опровержение», но оно «до сего времени не было напечатано». Получается, что, не желая оставить возражения оппонента без контрдоводов, в январе 1886 г. он отправил свою статью во второй раз. Собирался Аксаков печатать этот «Ответ» или нет — сказать трудно. Редактор «Руси» скончался на 17-й день после того, как было отправлено это письмо.
Что же касается рукописи Витте, стоит отметить: ее существование — аргумент в пользу версии Е. С. Левшиной, полагающей, что до 1884 г. между ее автором и Аксаковым не было «близких дружеских отношений», а наиболее вероятное время для появления в «Руси» первых статей Витте — «конец 1884 г.»32 Добавим: возможно, Витте в воспоминаниях сознательно преувеличил свое участие в газете Аксакова и свою близость к нему. Он работал над мемуарами в последние восемь лет жизни, уже будучи не у дел и имея довольно подпорченную на родине репутацию. Авторитет же покойного Аксакова, особенно вне либеральных кругов, был таков, что рассказы о тесном сотрудничестве с ним добавляли несколько ярких и сильных штрихов к автопортрету отставного политика. В действительности же все результаты их с Аксаковым совместной деятельности, о которых известно на данный момент, сводятся к одной-единственной статье.
Отметим, что среди приобретенных Титовым материалов «Руси» сохранилась и статья Шарапова под названием «Интеллигентство г. Энгельгардт». (Тит. 3081, л. 16–23). Она относится к 1881–1882 гг. и представляет собой обзор выступлений печати по поводу известных писем А. Н. Энгельгардта (публиковавшихся в журнале «Отечественные записки»)33 и их критику самим автором. Эту статью уместнее будет рассматривать в связи с более поздней работой Шарапова — его речью об Энгельгардте, произнесенной и опубликованной в 1893 г. вскоре после кончины последнего34.
Несомненный научный интерес представляет еще одна неопубликованная статья «Несколько слов о духоборцах» (Тит. 3143, л. 1–17 об.). Точнее — это речь или доклад, который еще в 1860 г. произнес 31-летний филолог и фольклорист П. А. Бессонов. И хотя на рукописи вместо его имени указан лишь криптоним «П. Б–в», авторство не сложно установить благодаря подзаголовку: «Речь, читанная в заседании Общества любителей российской словесности. 1860 г.» Стоит отметить, что являвшийся тогда председателем Общества А. С. Хомяков в конце заседания, на котором Бессонов прочел свой доклад, посвятил ему особое выступление. Подводя итоги доклада, Хомяков заявил: «В смысле художественном он открыл нам великое сокровище, до сих пор никому неизвестное. Песни, которые мы слышали, дышат глубокою искренностию и тою серьезностию (что англичане называют earnestness*), которой не слыхать в том, что новые народы привыкли называть литературою»35.
Исследование Бессонова не было издано в 1860 г. или вскоре после того, вероятнее всего, потому, что имело предметом весьма щепетильную сферу — поэтическое творчество духоборов, а значит и их воззрения на мир (хотя автор, возможно, использовал его отчасти в работе над вышедшими в 1861–1864 гг. сборниками «Калеки перехожие»). И даже при кратком сообщении о представленном Бессоновым докладе в газете «Московские ведомости» отсутствовало какое-либо указание на духобо-ров36. Очевидно, эта работа подпадала под цензурные ограничения, действовавшие до 1905 г. в отношении сектантов и старообрядцев. Сам автор, предваряя рукопись, отметил на полях, что прежде она не была напечатана «по обстоятельствам» (Там же, л. 1). Такое весьма туманное объяснение лишь укрепляет предположение о возникших перед ней цензурных препятствиях.
Только спустя более двух десятков лет Бессонов, тогда профессор кафедры славянской филологии Харьковского университета, предложил этот доклад к публикации в «Руси». При этом на своей рукописи 1860 г. он сделал помету, сообщающую, что использованные в ней стихи «написаны по большей части в Москве от мещанина Н. А. Толченова , не так давно умершего и знаменитого в свое время по участию в спорах разноверцев среди Кремля» (Тит. 3143, л. 1). Однако когда именно он передал доклад в редакцию газеты, и как отнесся к такому предложению Аксаков — сказать трудно. На рукописи нет никаких говорящих об этом помет, и в аксаковской газете она не была напечатана.
Еще один интересный исторический источник — не имеющая заглавия небольшая (восемь рукописных страниц) статья Ю. С. Карцова по поводу переворота, произошедшего в Восточной Румелии в сентябре 1885 г. (Тит. 3173, л. 146–149 об.). Без сомнения, это именно та рукопись, о которой ее автор спустя 20 лет рассказывал в своих воспоминаниях.
Карцов, в 1885 г. служивший консулом в болгарском городе Видине, выехал из него в отпуск в Россию 6 августа, в день переворота, обеспечившего объединение Северной и Южной Болгарии37. Подъезжая к Москве, он купил номер «Московских ведомостей», в передовой статье которых «М. Н. Катков энергически осуждал Филип-польский переворот и приводил выдержки из письма человека весьма сведущего. Автор письма видел в перевороте лондонско-венскую интригу»38. Судя по описанию содержания статьи, это — передовая номера от 11 сентября. Дата эта имеет значение, т. к. по словам Карцова уже на следующий день он явился к Аксакову и повел разговор о событиях в Восточной Румелии таким образом, что тот сам предложил ему подготовить об этом статью39. При этом автор воспоминаний говорил про редактора «Руси»: «Относительно соединения у него окончательного суждения еще не сложилось. Перед ним лежало письмо из Петербурга от М. А. Хитрово. Государь был в Дании. В Министерстве иностранных дел к соединению относились несочувственно, но что делать далее — не знали»40.
По словам Карцова, обещанную статью он написал уже на следующий день, а через день (т. е. 14 сентября) передал ее Аксакову, который, как рассказывал мемуарист, «остался очень доволен», горячо благодарил его и заявил, что она появится в «особом прибавлении»41. Однако в вышедшем вскоре «прибавлении» ее не оказалось, но была помещена статья самого редактора совершенно противоположного содержания42. Аксаков в ней, по утверждению Карцова, «русскую дипломатию смешивал с грязью, набрасывался на нее с пеною у рта»43. Однако достаточно прочесть эту довольно краткую статью, чтобы увидеть — она посвящена не обсуждению текущей или прежней политики, проводимой «русской дипломатией», а тому, какой этой политике, по мнению автора, надлежит быть. Иначе говоря, в ней Аксаков в принципе не задерживал внимания на недавней деятельности российского Министерства иностранных дел.
Для «метаморфозы», якобы произошедшей с редактором «Руси» «в последнюю минуту», Карцов не предлагал никаких иных объяснений, кроме мнения Е. В. Барсова, видевшего причиной тому «болезненное самолюбие Аксакова», который «не хотел идти за Катковым и его повторять»44. Именно с этой статьи, как уверял автор мемуаров, начался конфликт редактора «Руси» и власти из-за отношения к Болгарскому кризису, а закончился он, как известно, предостережением, вынесенным ему за обсуждение болгарских событий «тоном, несовместимым с истинным патриотизмом» (РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 24. Л. 137 об.–138)45. При этом Карцов уверял: «Исполни Аксаков свое намерение, напечатай он мою статью — не последовало бы роковой обиды и не разыгралась бы в душе его тяжелая драма, на самом краю его жизни»46.
Воспоминания Карцова об Аксакове и его супруге вообще представляют собой преувеличения, порой доходящие до карикатуры. Именно же про эту их часть можно сказать, что она соединяет в себе подробности, иные из которых находят полное подтверждения, а иные — являют собой весьма субъективные интерпретации, подтасовки и вымыслы. Во-первых, подчеркнем: с 1878 г., когда произошло разделение Болгарии, Аксаков (в отличие от российской дипломатии) был самым последовательным и энергичным противником произошедшего раскола. Именно так он проявил себя в передовой «Руси», вышедшей в свет 14 сентября47, т. е. в тот самый день, когда, по словам Карцова, он еще не занял в отношении к Болгарскому кризису твердую позицию и якобы заявил о намерении напечатать его статью, представляющую совершенно иное мнение.
В этой статье Аксаков убеждал читателей: «Было бы несообразно с достоинством России противиться воссоединению Румелии с Болгарией потому только, что оно совершилось не в тот час и не тем способом, как бы желала Россия»48. Более того, редактор «Руси» считал: «…великое счастие для Болгарии, что это воссоединение не отложено на дальний многолетний срок, когда уже успели бы сложиться в обеих ее частях своеобразные, розные пр ивычки и предания»49. При этом надо заметить,

Иван Аксаков. Худ. Г. И. Грачев, конец XIX — начало ХХ в.
что Аксаков, вопреки утверждениям Карцова, не идеализировал болгарский народ и тем более — болгарскую интеллигенцию. О последней он говорил, что она «не более как грубая копия с нашей же русской “интеллигенции” <…> которая дала России нигилистов, анархистов и динамитчиков»50. Не питал Аксаков симпатии и к болгарскому правителю князю Александру Баттенбергу, считая его одним из «дерзких самовольных авантюристов»51.
Добавим, что проявленная Аксаковым позиция отнюдь не была неожиданной для хорошо его знавшего Хитрово, который уже в день публикации передовой писал ему: «Спешу от всего сердца пожать Вам руку за Вашу статью в только что полученном 11-м № , которую я ожидал с нетерпением и сейчас прочел с восторгом. Великолепная статья!» (РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 657. Л. 31). Понятно, что при этом он выражал только свои собственные чувства, а не позицию министерства, в котором служил.
В рукописи же, которую Карцов подготовил для публикации в «Руси», не излагалось никаких подробностей, которые можно было бы ожидать от человека, только что вернувшегося с места событий, а лишь предлагалась жесткая и не без демагогии оценка происходящего: «Итак, два начала стоят друг перед другом: православномонархическое, т. е. Россия, социально-демократическое, т. е. Болгария. Чьи весы перетянут?» (Тит. 3173, л. 148). И далее эта статья прямо указывала на отнюдь не дипломатические меры, которые надлежит принять российским властям. Например: «Пора попросить князя Александра убраться в Баттенбергию восвояси» (Там же, л. 148 об.) или немногим далее: «…что бы ни постановили дипломаты за своим зеленым столом, для приведения их решения в исполнение нужна вооруженная сила. Ни князь Александр, ни Каравелов не уйдут без принуждения. Задача эта принадлежит России по праву» (Там же, л. 149).
Помимо столь категоричного и даже воинственного тона, вызывает удивление то, что эта рукопись имела в начале дату «14 сентября 1885 г.» и в подписи под ней автор указал свое настоящее имя. Ведь ни служивший прежде в качестве болгарского министра-президента генерал-майор Л. Н. Соболев, ни помянутый нами Хитрово, ни другие русские дипломаты, с которыми Аксаков поддерживал деловые отношения — к примеру, консулы М. М. Бакунин, Н. Н. Ладыженский, А. Г. Скворцов и др., — никогда не выступали в его издании с публикациями по внешнеполитическим проблемам под своими именами. Это было бы расценено как грубейшее нарушение ими служебных обязанностей. Тем более, если бы они позволили себе прямо указывать на меры, которые, по их мнению, надлежит предпринять Министерству иностранных дел. Но именно так поступал в своей статье Карцов. Проведя к тому времени шесть лет на ответственной дипломатической службе, он не мог не сознавать, что делает. Как тогда можно объяснить его поступок? И другой вопрос: как объяснить, что рукопись его статьи имеет дату на день позже той, которая следует из его воспоминаний?
Мы можем предложить тому лишь одно-единственное объяснение: для того, чтобы подготовить и начисто переписать быстрым почерком эту статью, автору понадобилось несколько часов (Карцов указывал, что после встречи с редактором «Руси» «весь следующий день» он «просидел дома и писал статью. К 8 час. вечера она уже была готова»52, а «на другой день после полудня» он «поехал к Аксакову и прочел ему статью»53). Еще сутки или немногим более понадобились автору, чтобы связаться с министерством54, согласовать с ним свое выступление в «Руси» и, вероятно, его основное содержание. Ведь после того, как под статьей появилась бы его подпись, даже без указания должности, эта публикация приобретала оттенок официального заявления.
По сути, Карцов (а за его спиной и российский МИД или, вероятнее, одна из наиболее влиятельных в нем группировок) предприняли попытку использовать газету Аксакова для проведения агитации за такие внешнеполитические меры, которые сам ее редактор-издатель не поддерживал и поддержать не мог. Поэтому рассказ мемуариста о якобы заявленном ему намерении напечатать эту статью в «Руси» выглядит весьма сомнительно.
Отметим также, что Карцов, как и Витте, стремился акцентировать свои давние симпатии к редактору «Руси»: «С детства самого раннего имя Аксаковых и все, что с этою семьею связано, мне представлялось в сиянии поэтического ореола»55. А после слов о ссылке Аксакова в 1878 г. он добавлял: «Как все русские патриоты, я ему горячо сочувствовал»56, а о «славянофильских идеалах», не конкретизируя, что именно он под ними имеет в виду, говорил: «которых я более не разделял, но которые — по старой памяти, мне были дороги»57. И тот, и другой рядом с Аксаковым вспоминали Каткова. Только Витте при этом уверял, что к его «складу ума более подходило направление, которого держался Аксаков»58, а выпускник катковского лицея (1877 г.) Карцов проявлял расположение к редактору «Московских ведомостей»59.
Однако и у одного, и у другого эти заявления напоминают, говоря современным языком, мелкие пиаровские жесты.
В архиве «Руси» находятся также статья и письмо И. Ф. Романова, которые позволяют восполнить лакуну, имеющуюся в исследовании самого раннего этапа его творчества. Статья «Заметки на полях» за подписью «Щек» (Тит. 3128, л. 165–173) вместе с сопроводительным письмом автора (Там же, л. 163–164) была прислана в редакцию в июне 1884 г. На первом листе статьи сохранилась помета Аксакова: «Не пойдет». Как позднее рассказывал В. В. Розанову сам автор, публицист, литературный и художественный критик Романов-Рцы, в 1885 г. он послал Аксакову первый «публичный опыт», который тот «не напечатал, но все-таки очень похвалил»60. Название же «Заметки на полях» Романов-Рцы позднее не раз использовал для авторской рублики в газетах «Слово», «Россия», или схожее — «Заметки на полях и размышления» — в газете Шарапова «Русский труд»61.
Письмо Аксакова к Романову, в котором тот подробно разобрал «Заметки на полях» и указал начинающему автору на его недостатки, было опубликовано сначала в 1886 г. самим адресатом62, а в 2016 г. — А. П. Дмитриевым63 (уже из этого письма, датированного Аксаковым «15-го июня 84 г.», видно, что спустя семь лет память подвела Романова-Рцы и, рассказывая об этой истории, он ошибся на год). Два других письма Романова к Аксакову (1 ноября 1883 г. и 18–21 июня 1884 г.) также опублико-ваны64. Сами же «Заметки» и сопроводительное к ним письмо Романова от 1 июня 1884 г. (с пометой Аксакова: «Ответ 15 июня 84») до сих пор оставались неизвестны. А. П. Дмитриев посчитал, что это письмо «до нас не дошло, поскольку оно сопровождало присланную в редакцию “Руси” рукопись статьи “Записки на полях”, которую Аксаков отказался печатать и, как было принято, отправил обратно вместе с письмом автору», а «архив Рцы утрачен»65.
Возможно, еще одной работой раннего Романова является «Схема “основного богословия”» с подписью «Щ» (Тит. 2977, л. 17–18 об.). Почерк, которым выполнено это произведение, весьма близок к почерку «Заметок на полях»66. И само оно, на деле посвященное критике «ереси папизма», очевидно, принадлежит непрофессиональному богослову, т. е. человеку, не имевшему духовного образования.
Как видим, все рассмотренные здесь произведения не были опубликованы в аксаковской газете и представляют не ее редакционный портфель, а скорее редакционную корзину, т. е. то, что было отбраковано редактором. В этом ряду особый случай являет собой рукопись статьи М. Ф. Де-Пуле. Она вышла в свет, но, как нередко случалось в «Руси», после доработки и с комментариями редактора. Имея конечный результат и рукопись, которая сохраняет правку, дополнения и пометы Аксакова, исследователи смогут изучить процесс работы редактора с текстом. Подспорьем в этом станут письма Аксакова к Де-Пуле 1884 — начала 1885 г., которые сохранились в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Прежде чем представить общую картину подготовки публикации этой статьи, напомним: литературный критик и публицист Де-Пуле неоднократно печатался в изданиях Аксакова начиная с 1859 г.67 В «Руси» же до этого он более всего проявил себя как автор работ по вопросам образования.
Проблема украинофильства волновала редактора «Руси» не первый год, однако посвященные ей публикации в газете появились не сразу. 12 июля 1881 г. он обращался к Бессонову: «Хорошо бы Вам написать что-нибудь об “украинофильстве”, которого я касался, пока, только издали, мимоходом. <…> Я над этим и сам много думал, но излагать мои собственные догадки теперь некогда, и хотелось бы проверить их Вашими научными исследованиями, ибо Вам и книги в руки»68. Тем не менее, Бессонов на такое предложение не откликнулся, и первой серьезной публикацией, целенаправленно обращенной к вопросам украинофильства, в «Руси» стала передовая статья самого редактора, появившаяся спустя более года после его призыва к Бес-сонову69, а в феврале 1884 г. в газете была напечатана анонимная статья «Г. Кулиш и “украинофильство”»70, которую уже в наши дни А. П. Дмитриев включил в корпус произведений Аксакова71. Наконец, весной 1884 г. Аксаков поместил в «Руси» обширную, изначально готовившуюся для журнала «Русский вестник»72, статью Де-Пуле «Украинофильство в его позднейшей формации»73.
Спустя три месяца, 5 июня 1884 г., в письме к Де-Пуле рассуждая о польском влиянии, активно проявлявшемся в то время в Западном крае, Аксаков восклицал: «Очень, очень прошу Вас не оставлять этого предмета в покое». И далее, со слов Бессонова рассказывал своему адресату: «Харьковский университет стал каким-то центром польской интриги и украинофильства. <…> Украинофильство в моде среди духовенства». Несколько ниже он продолжал: «Вот пока Вам тема: “украинофильство”, — очень рад буду Вашим статьям. Не можете ли Вы выписать сюда из Харькова новейшие продукты украинофил[ьской] литературы?..» (РО ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 107. Л. 11 об.).
Наконец, в августе 1884 г. Аксаков и Де-Пуле рассматривали возможность поднять в прессе вопрос об опасных сторонах украинофильства. Однако круг способных поддержать их изданий и журналистов был весьма узок. Так, Аксаков сразу заметил: «Бессонов и рад бы, да ужасно трусит: его положение в Университете очень шатко, и он боится лишиться места, т. е. остаться без куска хлеба» (Там же. Л. 16). Вспоминая те немногие издания, которые могли бы подключиться к обсуждению в качестве союзников «Руси», ее редактор назвал суворинское «Новое время», а также газеты «Киевлянин» и «Южный край». В связи с этим Аксаков 14 августа 1884 г. объяснял Де-Пуле: «Суворину я напишу, но нужно иметь повод . Иначе пришлось бы писать целую статью, объяснять и доказывать. Поводом к этому могла бы быть корреспонденция с юга, или же Ваша статья. Нужно что-нибудь резкое, выдающееся» (Там же. Л. 16).
Получилось ли у Аксакова скоординировать свои действия с А. С. Сувориным или с кем-либо из других издателей — вопрос для другого исследования. Однако легко предположить, что именно на запрос Аксакова Де-Пуле уже в сентябре закончил и направил в редакцию ту самую статью «Украинофильство и русинство… одно ли это и то же?».
Ее сохранившаяся рукопись перечеркнута по вертикали простым карандашом (Тит. 2977, л. 97–104 об.), а на первом ее листе синим карандашом рукою Аксаков помечено: «Отослать назад Мих[аилу] Фед[орови]чу Де-Пуле». Очевидно, поначалу редактор «Руси» не собирался ее печатать.
Однако спустя время Аксаков изменил свое мнение, и 17 октября 1884 г. он писал автору: «Ваша последняя статейка хороша как всегда, но мне придется кое-что в ней легонько подправить или оттенить примечанием (она пойдет в 21 №, раньше было нельзя)» (РО ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 107. Л. 24 об.). Далее он пояснял: «Дело в том, что истинные галичане — как Наумович74 и Площанский75 — публично объясняли здесь, что “русинство” и “русины” как название сочинено поляками и навязано ими австрийской власти; что галицкое украинофильство вызвано и поддерживается поляками, хотя иногда по наружности они ему и противодействуют; но украинофилы лично не подвергаются польским преследованиям и не страшатся процессов. Точно такое же отношение к полякам и наших украинофилов — и на этом нужно, мне кажется, несколько упирать, что они, положим и бессознательное, орудие политической интриги…» (Там же. Л. 24 об.).
В ходе работы над рукописью в нескольких ее местах были сделаны сокращения и исправления, а также — приписки, поясняющие или акцентирующие описываемые обстоятельства и формулировки. После этого на ней появилась новая помета чернилами: «№ 21. Корректуру с оригиналом ко мне» (Тит. 2977, л. 97). И, судя по тому, что в нескольких местах текст публикации заметно отличается от правленой Аксаковым рукописи, работу над ней он продолжил в корректуре (которая не сохранилась).
В итоге статья эта вышла в свет не в 21-м, а в 22-м номере «Руси» за 15 ноября, и вызвала заметную реакцию читателей. По крайней мере, среди приходившей в редакцию почты сохранилось письмо к Аксакову из С.- Петербурга от «преподавателя истории и словесности в нескольких средних учебных заведениях» В. Кулицкого, который возмущался статьей Де-Пуле, «вновь поднимающей бесполезную и губительную распрю между русскими и малороссами» (Тит. 3124, л. 100–101). Вместе с письмом, адресованным лично редактору, он подготовил и прислал предназначенное для печати «Письмо в редакцию газеты “Русь”» (Там же, л. 102–111 об.). Опубликовано оно не было, но, судя по помете на письме к Аксакову (Там же, л. 100), редактор газеты ответил на него.
Спустя несколько месяцев, 9 января 1885 г., Аксаков обратился в письме к Бессонову: «Послушайте: нельзя ли как-нибудь, не компрометируя Вас, продернуть всю эту украинофильщину на польской закваске? <…> Можно бы поручить это дело М. Ф. Де-Пуле <…>. Его все подмывает открыть поход против этой сепарастической или федералистской аберрации, да материалов у него нет. Он бы писал под своим именем из Тамбова (сам он ведь питомец Харьковского университета)»76. Затем, уже 18 февраля, Аксаков в общении с тем же адресатом продолжал: «М. Ф. Де-Пуле хотел войти с Вами в прямые отношения по вопросу об украинофильстве»77.
Имели ли их переговоры какой-либо результат — неизвестно. 24 августа в газете появилась статья-письмо «Подкоп “украинофилов” под русский “Народный Дом”»78 за подписью «А. Д.». Возможно, этот криптоним принадлежал секретарю редакции Антону Давидовичу. Также возможно, что он был поставлен для маскировки другого автора. Однако 27 августа 1885 г. Де-Пуле скончался79, и в оставшиеся до закрытия «Руси» месяцы проблема украинофильства в ней не поднималась.
Еще одна составляющая архива «Руси» — документы, которые направляли в редакцию не для публикации, а для ознакомления с ними редактора. Примером чему — два отдельных переплета, включающих документы, присланные орловским губернатором К. Н. Боборыкиным. Это подготовленное на официальном бланке его «Отношение Министру внутренних дел Н. П. Игнатьеву о мерах по сокращению пьянства. 29 августа 1881 г.» (Тит. 3153, л. 1–11) и «Ответы на вопросы министра внутренних дел о местном самоуправлении. [1884 г.] (Тит. 3074, л. 1–23 об.).
Свидетельством контактов, регулярно поддерживаемых Боборыкиным с «Русью», служит его письмо к Аксакову от 19 января (б. г.). Вместе с ним орловский губернатор адресовал редактору газеты две «касающиеся судебного дела» брошюры и приглашение на заседание губернского по крестьянским делам присутствия, направленное по просьбе его членов (Тит. 3169, л. 34–37).
Другой пример конфиденциального документа, направленного в «Русь» для сведения его редактора, — печатный «Журнал заседания Комиссии в г. Харькове по вопросу об экономической и общественной деятельности евреев» (Тит. 3128, л. 92–99 об.). Его сопровождало письмо Бессонова от 22 ноября 1881 г., которое, отметим, не вошло в изданную в 2018 г. их с Аксаковым обширную переписку80.
Примечательно, что, несмотря на существовавшее запрещение «печатного обсуждения работ еврейских комиссий», о котором было прямо упомянуто в «Руси»81, ее редактор 31 октября 1881 г. представил в первой части «Областного обозрения» изложение выступлений, прозвучавших в Харькове на заседании этой Комиссии82. Судя по письму Аксакова к Бессонову 30 октября 1881 г.83, последний в предшествовавшем ему (несохранившемся) послании сообщал редактору «Руси» сведения о работе харьковской комиссии, которые и послужили исходным материалом для «Областного обозрения». И уже в следующем номере «Руси» он в третьей передовой статье упомянул, что Бессонов «представил, говорят, очень замечательную записку»84. Присланный уже после этого печатный «Журнал заседаний», очевидно, являлся далеко не единственным в ряду переданных Бессоновым Аксакову документов. Иначе говоря, он служил одним из тех информаторов «Руси», которые поддерживали с ней регулярную, возможно, ежемесячную связь. При этом редактор газеты заботился о том, чтобы сохранить инкогнито своих тайных корреспондентов и не подвергнуть их опасности.
Среди информаторов Аксакова были и русские дипломаты. В первую очередь — служившие в славянских землях, которые обеспечивали его документами, касающимися отношений на Балканах и в соседних с ними регионах. Таковым являлся
Хитрово. К началу 1880-х гг. он провел на службе в Министерстве иностранных дел свыше 20 лет, из них большую часть времени — на Востоке. С Аксаковым, для которого Хитрово был «единственный светлый <…> пункт на нашем тусклом дипломатическом горизонте»85, его связывали пусть и не очень близкие, но весьма неформальные отношения. Вполне возможно, он еще в период издания Аксаковым газеты «День» присылал ему корреспонденции из Македонии и сообщал информацию, которую редактор газеты мог использовать в передовых статьях, посвященных положению славян. И уже несомненен факт его участие в возглавляемой Аксаковым газете «Москва»: О. Л. Фетисенко указала ряд подготовленных им в 1867 г. публикаций о событиях на Востоке. А о более позднем их сотрудничестве автор пишет: «Хитрово был приглашен и в “Русь” <…>, но присылал он сюда, как видно и по его письмам, главным образом стихи»86.
Тем не менее, хотя бы эпизодически Аксаков, благодаря Хитрово, получал информацию о происходивших в этом регионе событиях. Такое предположение позволяет сделать доклад о ситуации вокруг православных болгар в Македонии, составленный драгоманом российского консульства в Салониках Н. Спростановым 28 октября (9 ноября) 1881 г. Доклад был адресован генеральному консулу в Софии Хитрово (прежде, служившему в Салониках), а в копии на французском и русском языках послан Аксакову (Тит. 3171, л. 93–100 об.). Подчеркнем: редактор «Руси» получил этот доклад непосредственно от Спространова, а не от Хитрово. Однако трудно представить, что дипломатический чиновник, лично не знакомый с редактором «Руси»87, пошел бы на нарушение служебных обязанностей без конфиденциальной просьбы своего недавнего прямого начальника. Добавим, что на первом листе этого доклада сохранилась помета редактора «Руси», сделанная синим карандашом: «Подлеж[ит] помеще[нию]» (Тит. 3171, л. 93). Однако в ближайшие за тем недели никаких сведений о положении вокруг болгарских верующих в Македонии в газете не появилось. Причиной тому может быть скудное информативное содержание доклада, в котором не сообщалось никаких новостей, а лишь описывалась давно сложившаяся ситуация. Дополнительной причиной мог стать и поток иных новостей, приходивших в те недели с Балкан.
Продолжая затронутую тему редакторского отбора публикаций, заметим: архив «Руси» представляет для ее будущих исследователей весомый материал. Около 60 документов имеют карандашные пометы Аксакова, большая часть которых гласит: «Не пойдет», «Напечатана быть не может» и т. п. Некоторые пометы содержат поручения сотрудникам. Например, на статье неизвестного «Несколько слов о еврейской литературе» Аксаков оставил помету с указанием передать рукопись А. Д. Давидовичу и добавил: «Нужно бы, кажется, воспользоваться, сократить и переделать» (Тит. 3080, л. 20)88. В некоторых случаях редактор указывал причину отказа, например: «Очень плохо написано, требует тщательных исправлений» (Тит. 2977, л. 60) — о статье полковника И. И. Архипова «Черты из жизни на Дону»; или даже: «Живой пример неуважения к народу и третирования его с высоты своего величия en matériel» — о «Проекте мирской запашки», присланном С. Д. Березиным из Вышневолоцкого уезда (Тит. 3173, л. 195–203 об.)
Еще одну, сравнительно небольшую часть материалов, присланных в редакцию «Руси», составляют литературные сочинения. К ним, кроме стихотворений крестьянских поэтов-самоучек, относятся неопубликованные стихотворения других, более успешных, авторов, представляющих интерес для истории литературы, как например: С. А. Бердяев89 (Тит. 3162, л. 47–48 об., с сопроводительным письмом), Д. К. фон Лизандер90 (Тит. 2938, л. 1–10; 1882–1884 гг.), А. Ф. Мейснер91 (Тит. 3159, л. 1–8 об.), В. Л. Тиминский92 (Тит. 2938, л. 11–14 об.; 1884 г.) Особо нужно отметить недавно опубликованные О. Л. Фетисенко два ранних литературных опыта 17-летнего И. И. Фуделя, впоследствии известного общественного и церковного деятеля (Тит. 3170, л. 49–53 об.).
Таким образом, абсолютное большинство описанного нами архива «Руси» составляют неопубликованные материалы, отбракованные редактором газеты на стадии ее подготовки. Подобные документы в целом, более чем какое-либо иное архивное собрание, дают представление о трудоемком почти ежедневном процессе отбора и подготовки газеты, который вел Аксаков. Такой процесс был бы невозможен без создания обширной сети авторов и информаторов, которых он привлекал и отношения с которыми поддерживал порой годами.
Учитывая, что рассмотренные нами материалы — это лишь часть того, что отринул редактор в работе над своей газетой, мы можем уподобить аксаковскую «Русь» вершине айсберга, под которой скрывается во много ее превосходящая невидимая часть. При внимательном изучении архив этой газеты поможет исследователям не только раскрыть определенный срез настроений и интересов, свойственных русскому обществу первой половины 1880-х гг., но и представить характерные эпизоды и нюансы борьбы, которая развивалась вокруг этих настроений и общественных ожиданий. Он позволит увидеть и проследить скрытый процесс формирования будущего предреволюционного общества, а иногда и развитие отношений между этим обществом и властью. Для этого, однако, важно использовать одновременно и другие источники — опубликованные и хранящиеся в иных архивных собраниях.
Архив газеты «Русь» еще ждет своих будущих исследователей, в том числе историков литературы и журналистики.
Список литературы Забытый комплекс документов газеты И. С. Аксакова «Русь»
- Аксаков И. С. Сочинения. М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1886. Т. 3: Польский вопрос и западнорусское дело. Еврейский вопрос. VIII, 844 с.
- Аксаков И. С. Собрание сочинений. СПб.: Росток, 2015. Т. 1: Славянский вопрос. Кн. 2 / Изд. подг. А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров. 766 с.
- Бадалян Д. А. Архив И. С. Аксакова в Императорской Публичной библиотеке: история поступления и издания произведений писателя // Книжное дело в России в XIX — начале XX века. Сб. научных трудов. Вып. 19. СПб.: РНБ, 2018. С. 98–135.
- Бадалян Д. А. И. С. Аксаков и газета «Русь» в общественной жизни России: дис. … канд. ист. наук / С.-Петерб. ин-т истории РАН. СПб., 2010. 297 с.
- Бадалян Д. А. «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870‑х — первой половины 1880‑х годов. СПб.: Росток, 2016. 360 с.
- Бадалян Д. А. Круг авторов газеты И. С. Аксакова «Русь» // Культура и история: Материалы межвузовских научных конференций «Культура и история» (2004–2007) / Под. ред. Ю. К. Руденко, А. А. Шелаевой и др. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 192, 190–201.
- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1903. Т. 17. С. 305. X, 494 с.
- Газета «Русь» 1880–1886 годов / Аношкина В. Н., Батурова Т. К., Белл М. Л. и др.; ред. кол.: В. Н. Аношкина и др. М.: Пашков дом, 2017. 581 с.
- Дмитриев А. П. Экклесиология Вл. С. Соловьева и богословское наследие А. С. Хомякова в переписке И. С. Аксакова с Рцы (И. Ф. Романовым) // Семья Аксаковых: литературное наследие и гражданская позиция: из архивных разысканий. СПб.: Росток, 2023. С. 457–486.
- Золотухин М. Ю. Россия и объединение Болгарии в 1885 г. // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2017. № 2. С. 85–96.
- Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома. Исторический очерк. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 444 с.
- Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания / Ред. кол. Б. В. Ананьич, Ф. В. Числов, Р. Ш. Ганелин и др. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1: Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. 521 с.
- История русской журналистики XVIII–XIX веков / Под ред. Л. П. Громовой. 3‑е изд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. 527 с.
- История русской литературы XIX века. 70–90‑е годы / Под ред. В. Н. Аношкиной и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 797 с.
- Карцов Ю. С. Семь лет на Ближнем Востоке. 1879–1886. Воспоминания политические и личные. СПб.: Экономическая типолитография. 1906. 393 с.
- Кочетова Е. В. Иконография Г. С. Аксакова и членов его семьи в Литературном музее Пушкинского Дома // Наследие семьи Аксаковых в русской культуре, отечественной истории и общественной жизни: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 9 сентября 2022 года / Под ред. Т. В. Бакниной. Самара: СГИК, 2022. С. 228–258.
- Краткий отчет о новых поступлениях: 1950–1951 гг. / Под ред. В. Г. Геймана. Л.: Изд. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1953. 143 с.
- Левшина Е. С. С. Ю. Витте и И. С. Аксаков в 1880‑е гг. // Петербургский исторический журнал. 2016. № 3. С. 234–248.
- Материалы по истории балканских славян в Отделе рукописей и редких книг: Каталог: Вып. 1 / Сост. Л. И. Бучина, Т. Л. Винокурова, М. Я. Стецкевич, ред. М. Я. Стецкевич. Л. [б. и.], 1977. 179 с.
- Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-корреспондента Императорского общества любителей древней письменности А. А. Титова. Т. 6. М.: Изд. Александра Андреевича Титова, 1913. VIII, 405 с.
- Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-корреспондента Императорского общества любителей древней письменности А. А. Титова. Т. 1. Ч. 1. [СПб., б. и.], 1893. [2], VIІІ, 256 с.
- Охранный каталог славяно-русских рукописей А. А. Титова: Вып. 1. Ростов: Типография И. Краморева, 1881. [4], 216 с.
- Переписка И. С. Аксакова и П. А. Бессонова (1857–1886) / Публ. Е. В. Неберекутиной, А. Г. Юшко, А. П. Дмитриева и Д. А. Бадаляна // Люди русской правды: Переписка И. С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1855–1886) / Под общ. ред. Б. Ф. Егорова и А. П. Дмитриева. СПб.: Росток, 2018. С. 11–167.
- Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову / Публ. и предисл. С. Р. Федякина // Литературная учеба. 2000. Кн. 4. С. 106–179.
- Романов И. Ф. Собр. соч.: В 2 т. / Изд. подг. А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров. СПб.: Росток, 2016. Т. 2: Плюсы жизни: литературные очерки, художественная критика, юмористическая проза, письма к И. С. Аксакову, Н. П. Гилярову-Платонову, В. В. Розанову, А. С. Суворину и другим современникам. 878 с.
- Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). М.: Вост. лит., 2001. 277 с.
- Смирнов Я. Е. Купец-историк А. А. Титов в контексте истории культуры российской провинции последней трети XIX — начала XX века.: дис. … канд. ист. наук / РГГУ. Историко-архивный институт. М., 2014. 262 с.
- Статьи Рцы (И. Ф. Романова) и его переписка с И. С. Аксаковым I. Переписка Рцы (И. Ф. Романова) и И. С. Аксакова (1883–1884) // Историко-философский ежегодник’2009. 2010. С. 403–434.
- Сташнева М. А. Социально-политическая программа газеты И. С. Аксакова «Русь»: 1880–1886 гг.: дис. … канд. ист. наук / Нижегор. гос. архит.-строит. ун-т. Н. Новгород, 2011. 259 с.
- Стихотворения крестьянина Ивана Дмитриевича Осокина / Изд. П. Ф. Морокина. Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1888. [2], VIII, 102 с.
- Стрельникова Е. А. Поступление собрания А. А. Титова в Императорскую публичную библиотеку // Ревностный собиратель старины: К 170‑летию со дня рождения А. А. Титова (1844–1911): Виртуальная выставка. URL: https://expositions.nlr.ru/ex_manus/titov/ipb.php (дата обращения: 02.09.2023).
- Сухоруков Л. Н. Архив газеты «Русь» в собрании А. А. Титова Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Указатель содержания // Иван Аксаков и его наследие. Сб. статей и материалов / Сост. и науч. ред. Д. А. Бадалян. СПб.: РНБ, 2024. С. 151–216.
- Титов А. А. Охранный каталог славяно-русских рукописей: Вып. 4. М.: Типография Л. и А. Снегиревых, 1889. [2], 70, XVIII с.
- Федякин С. Р., Розин Н. П. Рцы // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь / Под ред. П. А. Николаев. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. Т. 5: П–С. С. 397–400.
- Фетисенко О. Л. Дипломат и поэт Михаил Хитрово — корреспондент Ивана Аксакова // Наше наследие. 2019. № 129/130. С. 100–113.
- Фетисенко О. Л. Два ранних литературных опыта Иосифа Фуделя // Русско-Византийский вестник. 2023. № 1 (12). С. 193–205.
- Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. М.: Университетская типография, 1900. VIII, 482, 11 с.
- Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. М.: Тип. П. Бахметева, 1861. Т. 1: Собрание отдельных статей и заметок разнородного содержания. 1861. VIII, 722, III с.
- Шарапов С. Ф. А. Н. Энгельгардт и его значение для русской культуры и науки: (Публ. лекция, чит. в Ист. музее в Москве 22 февр. 1893 г.). СПб.: М. М. Ледерле и К°, 1893. 62 с.
- Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887 / Изд. подг. А. В. Тихонова. СПб.: Наука, 1999. (Литературные памятники). 714 с.