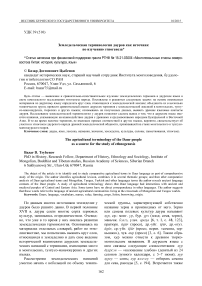Земледельческая терминология дауров как источник по изучению этногенеза
Автор: Цыбенов Базар Догсонович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Востоковедение
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - выявление и сравнительно-сопоставительное изучение земледельческих терминов в даурском языке в свете комплексного исследования этногенеза народа. Поставлены и решаются следующие задачи: на основе имеющихся материалов по даурскому языку определить круг слов, относящихся к земледельческой лексике; объединить их в несколько тематических групп; провести сравнительный анализ даурских терминов с земледельческой лексикой в монгольских, тунгусо-маньчжурских, тюркских и других языках; основываясь на полученных данных, выявить древние языковые контакты дауров. Исследование земледельческой терминологии у дауров позволяет сделать вывод о том, что в даурском языке имеются названия, указывающие на взаимодействие дауров с древними и средневековыми народами Центральной и Восточной Азии. В то же время наличие терминов, не имеющих прямых соответствий в других языках, вероятно, свидетельствует об участии в этногенезе даурского народа древней земледельческой общности, проживавшей на стыке монгольского и тунгусоманьчжурского миров.
Дауры, язык, лексика, названия, значение, земледелие, культуры, солоны, заимствования, этногенез
Короткий адрес: https://sciup.org/148182658
IDR: 148182658 | УДК: 39
Текст научной статьи Земледельческая терминология дауров как источник по изучению этногенеза
По данным многих источников земледелие у дауров было развито давно. В первой половине XVII в. дауры сеяли многие сорта зерновых культур, занимались огородничеством. Очевидно, что уже в то время у них имелась развитая земледельческая терминология. Основываясь на материалах отдельных словарей, работ по этнолингвистике, мы попытались выявить круг слов, относящихся к земледелию и дать свое видение исторической взаимосвязи даурских земледельческих названий с терминами, имеющими место в монгольских, тунгусо-маньчжурских и других языках.
Рассмотрение земледельческих названий уместно начать с небольшой по объему темати- ческой группы, характеризующей собственно название зерна и производных от него. Зерно или семена полевых культур дауры называют хур, ср.: монг. үр, бур. үрэ (плод; семя, зерно), маньчж. бэлгэ, ульч. араҳа [6, т. I, с. 48, 123], пратюрк. ügür (просо), др.-уйг. üjür, др.-огуз. ügür, ср.-уйг. üjür (просо, перен. «семена, зернышки»), чув. вир (просо) [3, с. 6]. Таким образом, хур можно отнести к древним тюркомонгольским названиям. В даурском языке с ним связаны следующие словосочетания: хур дуурсэн — «колошение хлебов» (девятый из 24 сезонов лунного календаря, с 5–7 июня); хур хургу — сеять; хур ялэгэгу — отбирать семена для сева, рассады [5, с. 194]. Встречается также другое название зерна — ниргэс, не имеющее прямых соответствий в других языках, за исключением солонского, ср.: сол. ниргэ (греча, гречиха) [7, с. 158].
Солоны, по всей вероятности, позаимствовали слово в период совместного проживания на территории Верхнего Приамурья в XV – XVII вв. Некоторые солонские роды были ассимилированы даурами и, таким образом, приняли участие в этногенезе народа. Ко времени контактов с ними преобладающим у дауров был хозяйственно-культурный тип пашенных земледельцев. В то же время большую роль играли охота и полукочевое скотоводство, поэтому многие традиционные блюда до сих пор представляют собой синтез продуктов этих хозяйств. Одним из них является гречневая каша с олениной, считающаяся хорошей едой для стариков. Можно предположить, что в определенный период взаимодействия двух этносов преобладающей зерновой культурой, использовавшейся в торговых обменах, была гречиха. Со временем значение слова ниргэс в солонском языке конкретизировалось и стало обозначением собственно гречихи. В языке дауров имеются и другие названия зерна, в зависимости от степени созревания, обработки. К примеру, койтус (плацента, послед) имеет переносное значение «неспелое зерно». Ближайшие аналоги имеются в монгольских языках, ср.: монг. хойтхи, бур. хойто, но в виде «неспелое зерно» эти слова не употребляются. Очевидно, что семантически производное наименование койтус относится к разряду метафорических образований, отражающих зародышевое состояние кого-либо (чего-либо). Перенос наименования мог произойти давно, в период длительного, изолированного развития земледелия у дауров.
Лексемы шолгу, балт, будуун ам означают «грубое, неочищенное зерно». Первые два слова не находят удовлетворительных параллелей в других языках, поэтому их предварительно можно отнести к разряду исконных даурских названий. Эти лексемы, вероятно, возникли после распада общего языка протомонголов, когда началось обособление дауров. В целом предстоит выяснить их принадлежность к общеалтайскому фонду, возможно, имеются соответствия в других языках. Будуун ам делится на составные части: будуун (грубое), ам (зерно), ср.: монг. бүдүүн гурил (мука крупного помола) [1, т. I, с. 291]. Лексема, на наш взгляд, относится к общемонгольским словам, подчеркивающим ранее знакомство с земледелием. В собственно монгольском языке словосочетание 6YdYYH ам(уу) вышло из употребления, однако утвердилась другая лексическая единица — 6YdYYH гурил. Исконная форма, таким образом, сохранилась в даурском языке.
В отдельную тематическую группу включены названия отрубей, мякины и шелухи. Название отрубей аага имеет этимологическое соответствие в монгольском языке, ср.: монг. аага (рисовые высевки; отруби; мякина) [1, т. I, с. 3], нан. араҳа [6, т. I, с. 48]. В бурятском языке имеется название аагаНан со значением «толокно» [8, т. I, с. 20]. Наличие одинакового названия отрубей у дауров и монголов можно также отнести к свидетельствам автохтонного характера земледелия у протомонголов. Диалектизмом от аага является хаагэ . Как известно, в даурских говорах часто встречаются слова с начальным х- , например, харба (десять), хукур (корова), халэг (ладонь) и другие. Данное явление имело место и в языке средневековых монголов. Исследователями выявлен пласт слов, общих для даурского и средневекового монгольского языков. Что касается изучаемой тематической группы, многие наименования можно отнести к числу исконных слов даурского языка. Например, наименования отходов или побочных продуктов, полученных от переработки гречихи: алэм (лузга гречихи, шелуха), ханнэл (гречневая мякина), хурдул (гречневые отруби) [5, с. 177, 194]. На данный момент они не обнаруживают прямых соответствий в других языках. Эти термины могли появиться как на ранних этапах этногенеза дауров, в период после распада протомон-гольской общности, так и в позднем средневековье, в XV – XVI вв. Поэтому возникает необходимость в определении времени, когда дауры начали возделывать гречиху.
К другим наименованиям относятся лексические единицы далкьдул (шелуха, остатки, после очистки зерновых), муртул (отруби), урээ (мякина) [5, с. 54, 117, 171], которыe предварительно рассматриваем как собственно даурские слова. В ходе последующих сравнительносопоставительных изысканий, возможно, обнаружатся параллели в других языках. На данный момент, ввиду отсутствия таковых, мы склоняемся к мысли о раннем формировании отмеченных лексем.
Как известно, восточными соседями дауров были маньчжуры — народ с достаточно древними традициями земледелия и развитой земледельческой терминологией. Если предположить, что дауры, прибыв с территории Восточной Монголии на Верхний Амур в XIII в., стали под влиянием предков маньчжуров — чжурчжэней приобщаться к земледелию, то естественно мог- ли у них позаимствовать и сохранить до наших дней отмеченные выше термины. Однако лексический материал по этой тематической группе представлен самобытными даурскими словами. Они указывают, с одной стороны, на принадлежность к древней земледельческой культуре, с другой — на более позднее формирование (XV– XVII вв.) новых лексических единиц в даурском языке. В последнем случае, большую роль сыграло изолированное развитие даурского языка. Даурское название пуус (отруби) [5, с. 136], очевидно, связано с китайским 麸子 fūzi (отруби, полова, мякина) [2]. По нашему предположению, дауры могли заимствовать это слово в результате прямых контактов с китайским населением на территории Западной Маньчжурии в XVIII–XIX вв.
Следующую тематическую группу образуют даурские названия зерновых культур. Часть их отмечена в донесениях русских служилых людей, проникших в первой половине XVII в. в речные долины Амура и Зеи. К «шести хлебам», упоминаемым в отечественных источниках, относились ячмень, овес, просо, греча, горох и конопля. Нами выявлены следующие названия вышеуказанных культур: хаул (гречиха, греча), писгээ (пшено, просо), нареем (чумиза, просо итальянское), маңгэлэм (вид проса, монгольское просо), куалимп (овес), мургил (ячмень), борчоо (горох), олс (конопля). Помимо этого, имеются и другие обозначения гречихи и проса, например, аусэм (очищенное просо), ниж (гречиха) [5].
Основным наименованием гречихи в даурском языке является хаул. В языках монгольских и тунгусо-маньчжурских народов, на первый взгляд, оно не встречается, за исключением солонов, в языке которых есть лексема хаоле (греча) [6, т. II, с. 462]. Наименования гречихи в других языках следующие: монг. сагаг, сагадай [1, т. III, с. 66]; маньчж. сачу, ульч. чачу, нан. чачо/у [6, т. II, с. 386], тюрк. кара будай [3, с. 37], кит. wūmài, qiáomài, yuánmài, kǔqiáomài [2]. Таким образом, прямых лексических параллелей в других языках не обнаружено. Солон-ское хаоле относится к заимствованиям из даурского языка, как и ниргэ. Поскольку оба названия обозначают гречиху, возникает необходимость в дальнейшем лексико-семантическом изучении солонских слов. Что касается даурского хаул, то последующее, более подробное изучение выявило в монгольском языке наименование хур (гречиха восточная) [1, т. IV, с. 173], что позволяет отнести лексему к общемонгольскому пласту. Наблюдается явные отличия между мон- гольскими наименованиями сагаг (сагадай) и хур. В последнем случае гречиха определена как восточная, что можно трактовать как обозначение культуры, произрастающей в понимании монголов к востоку от их места проживания. К таковым могли относиться как собственно маньчжурские территории, так и сопредельные земли, населенные издревле смешанным маньчжуро-монгольским населением.
Наличие ряда даурских названий, связанных с гречихой, позволяет считать, что предки дауров познакомились с восточным вариантом культуры раньше монголов. К другому даурскому названию гречихи – ниж также не обнаружено прямых соответствий в монгольских и других языках. На данный момент выяснено лишь, что на китайском языке ниж именуется как. 荞麦糁子 qiáomàisǎnzi, где 荞麦 qiáomài обозначает гречиху. В отечественных работах имеется даурское название ниджи в значении «пшено» и приводится сравнение с маньчжурским словом ничжихэ (мелкая рисовая крупа) [7, с. 158]. Поэтому возникают сложности в определении зерновой культуры, именуемой ниж ( ниджи ). Исключая вероятность нашего ошибочного перевода этого слова как гречихи, мы склоняемся к мысли, что оно обозначает зерна гречихи, прошедшие определенный этап обработки.
Из даурских сортов проса выделяется маңгэлэм (вид проса, монгольское просо). Слово делится на две составные части: маңгэл и эм. В первой части мы видим видоизмененный этноним монгол, во втором — слово ам, имеющее в даурском языке два значения: 1) рот; 2) зерно, крупа, продовольствие. Параллели имеются в монгольском языке: монгол амуу (скороспелое просо; монгольское просо) [1, т. II, с. 86, 334], в тунгусо-маньчжурских языках данное слово отсутствует. Словосочетание «монгольское просо», очевидно, свидетельствует о том, что его возделывали именно монголы. И появление этого сорта проса у дауров связано с заимствованием указанной культуры. Достаточно сложно определить время, когда дауры могли позаимствовать этот сорт. Но понятно одно, что это событие имело место после появления и распространения этнонима монгол, т. е. предположительно в XIII–XIV вв. Можно предположить и более позднее появление названия маңгэлэм, в XVIII– XIX вв. Этноним монгол в даурском языке звучит как моңгул [5, с. 114]. И если дауры переняли название сорта проса в позднее время, то, соответственно, он именовался бы как моңгулам. Поэтому более логичной выглядит версия ран- него появления этого названия у дауров. Другие монгольские наименования проса: шар будаа, хар будаа, хоног амуу [1, т. I, с. 273] не обнаруживают аналогов в даурском языке. Единственно, монгольское будаа (крупа; каша) связано с даурским бадаа (еда; рис). Название амуу в даурском языке именуется как ам (ама), в итоге восходит к древнемонгольскому названию аму (обдирной хлеб; крупа).
Наименование сорта проса нареем (чумиза, просо итальянское) встречено нами в языке южных монголов, в значении «пшено» имеется у солонов [6, т. I, с. 585]. Солонское название, очевидно, относится к заимствованиям. Отсутствие нареем в монгольских словарях позволяет также говорить о заимствованном, региональном характере названия, которое отмечено нами в речи информаторов, южных монголов (хорчи-нов, харачинов), проживающих в Хулун-Буирском аймаке АРВМ КНР. Ввиду отсутствия других явных лексических аналогов нареем предварительно относим к исконным даурским обозначениям. Другое наименование проса пис-гээ находит свои аналоги в тунгусоманьчжурских языках: ср. ороч. пиксэ , ульч. пиксэ ), нан. пиксэ , маньчж. фисикэ ~ фисихэ (просо мелкое, красноватое, клейкое) [6, т. II, с. 38]. Таким образом, даурское писгээ восходит к маньчжурскому фисикэ ~ фисихэ . В свою очередь, фисихэ , очевидно, связано с корейским пхи (курмак – род проса) [6, т. II, с. 38].
Термин аусэм встречается в наших полевых материалах 2004–2005 гг. в одном ряду с собственно зерновыми культурами, поэтому относим аусэм к сорту проса. В мире существует более 440 разновидностей проса, и некоторые его сорта могли культивироваться даурами как на территории Приамурья, так и на северо-востоке Китая. Название аусэм не встречается в языках соседних народов, что, возможно, свидетельствует о его возникновении в даурской среде. Тем не менее, ввиду малой изученности этимологии термина нельзя исключать и вероятности культурного заимствования у соседних народов. На китайском языке аусэм звучит как 稷子米 jìzimǐ и означает «просо посевное (неклейкое), гаолян». В представлении древних китайцев данный сорт проса был главным злаком. Его название явилось именем божеств земледелия и злаков, а также названием чинов, ведавших земледелием [2].
Овес дауры называют куалимп. В виде хо-лимпа ~ холимпо он встречается у солонов. В говоре осолонившихся дауров название звучит как куалiмпо ~ кулiмпа. Термин ҳолимпа встречается в маньчжурском языке как обозначение невыясненного злака (жито, похожее на кукурузу) [6, т. II, с. 469]. Составители «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков» не могли не знать маньчжурское название овса, поэтому под словом ҳолимпа понималась иная зерновая культура. Семантические расхождения данного слова у этих народов объяснимы усилением процесса развития и формирования языковых особенностей в новое время. Цепочка заимствований в данном случае может выглядеть следующим образом: 1) маньчжуры – дауры – солоны; 2) дауры – маньчжуры и солоны. Во втором случае предположение строится на даурском происхождении слова куалимп.
Особое место в даурской земледельческой терминологии занимает мургил (ячмень). Аналогичное название мургил имеется в солонском языке со значением «яровое поле» [6, т. I, с. 558]. Поскольку дауры не могли заимствовать его у солонов, в недавнем историческом прошлом бывших охотниками и отчасти скотоводами, полагаем, что мургил — это самобытное даурское обозначение ячменя. Оно не характерно для языков алтайской языковой семьи: монг. арвай , бур. арбай , маньчж. арфа , др.-тюрк. arpa [6, т. I, с. 52]. Название ячменя arpa имеется также в венгерском языке. Есть мнение, что слово происходит от индоиранского обозначения ячменя, ср.: санскр. arbha . Проникнув первоначально в язык древних тюрков, термин далее распространился в монгольских, тунгусоманьчжурских и самодийских языках [3, с. 35]. Таким образом, даурское мургил стоит особняком среди них. О времени его появления говорить затруднительно, оно могло возникнуть очень давно, на ранних этапах этногенеза народа, в среде, отличной от древнетюркской и монгольской.
Название гороха борчоо относится к общеалтайскому фонду, ср.: монг. буурцаг (бурсак, бу-урсаг), тюрк. борчак (бурчак, борсак, буршак), алт. мырчак, маньчж. бохори (мелкий полевой горох, чечевица) [4, с. 513]. Как полагают тюркологи, термин относится к исконно тюркским и образован от глагола бур – (вить, скручивать), указывающего на характерную особенность стебля растения [3, с. 42]. Наименование гороха, безусловно, восходит к пласту слов, общих для монгольских, тюркских и тунгусоманьчжурских языков. В монгольских языках также имеются глаголы с основой бур–, чьи значения, на наш взгляд, отражают особенности гороха. Например, буржийх (курчавиться, куд- рявиться, завиваться), бурзайх (виться, курчавиться, ветвиться). Имеются ботанические термины, образованные с помощью прилагательного буржгар (курчавый, завитой, вьющийся): буржгар хонхлой цэцэг (бубенчик курчавый), буржгар сарана (лилия кудреватая) [1, т. I, с. 282].
Даурское название конопли олс восходит к монгольскому олс ( он ), ср. маньчж. оло , тюрк. кендир , венг. kender , ср.-монг. kendir [3, с. 40]. Прослеживается соответствие даурского и монгольского терминов, близко к ним стоит маньчжурское оло . Название kendir средневековых монголов указывает на языковые контакты с тюркским миром. Предстоит выяснить, когда могла произойти замена тюркского заимствования на общемонг. олс ( он ). Или же мы имеем дело с более древней лексемой оло ( с ), существовавшей в монголо-маньчжурском этнокультурном ареале.
Сравнительно-сопоставительное рассмотрение возделываемых даурами культур XVII в. показывает, что названия сортов проса маңгэлэм и нареем имеют прямые соответствия в монгольском языке; мургил — в языке солонов; куа-лимп — в маньчжурском и солонском языках, хаул — в солонском языке. Значение термина ниж точно не определено, близким к нему является маньчжурское ничжихэ. К наименованию аусэм лексических параллелей не отмечено, возможно, оно возникло в результате длительного обособленного развития даурского языка. Название гороха относится к словам общеалтайского фонда, обозначение конопли характерно для монгольских языков.
Из других полевых культур, не отмеченных в русских донесениях XVII в., можно назвать следующие: сорт проса гаулеен (гаолян, сорго), су-саам (кукуруза), канс (рис), майс (пшеница). Их культивирование можно отнести к более позднему периоду, когда дауры уже проживали в Западной Маньчжурии, в долине р. Нонни. Название гаолеен (сорго зерновое китайское) восходит к китайскому 高粱 gāoliang. Тем самым оно существенно отличается от обозначения гаоляна в языках соседних народов: ср. маньчж. шушу, нан. cисо, п.-мо. sisi, монг. шиш, кор. сусу [6, т. II, с. 99], бур. улаан будаа, хитад будаа [8, т. II, с. 147]. К ним примыкает и слово 秫秫 shúshú (гаолян), имеющееся в северных говорах китайского языка [2]. Под термином сусаам дауры понимают кукурузу или маис. Наиболее близко к нему стоят монг. эрдэнэ шиш (кукуру- за), кит. yùshǔshǔ 玉蜀秫 (кукуруза, маис).
Канс (рис; очищенный рис) обнаруживает следующие соответствия: ср.: сол. ханда ʒ эктэ , нег. хандибла , ороч. ханду-бэлэ , ульч. ҳанду-бэлэ , нан. ҳанду-бэлэ , маньчж. ҳанду — 1) рис (на корне); 2) рисовое зерно (необработанное); кит. хань дао 旱稻 рис суходольный (богарный) [6, т. II, с. 461]. В монгольском языке рис называется тутрага или цагаан будаа . Даурское название риса, таким образом, существенно отличаясь от монгольского, обнаруживает близость с тунгусо-маньчжурскими обозначениями, в свою очередь, восходящими к китайскому языку. В то же время заметно отличие даурского канс от ханду ( ханда ) тунгусо-маньчжуров и китайского хань дао , выраженное в начальном согласном к – и окончании – с . Поскольку мы не имеем данных о выращивании риса даурами как в Приамурье так и в Западной Маньчжурии, можно полагать, что он попадал к даурам в результате торговых обменов. Причем знакомство дауров с рисом, учитывая отмеченные различия в названии, могло быть ранним. Возможно, в эпоху средневековья в районах Северо-Восточного Китая существовало и другое обозначение суходольного риса как 旱子 han zi. Таким образом, канс может представлять собой прямое заимствование из китайского языка без посредничества маньчжуров.
Название пшеницы майс указывает на взаимодействие с народами Восточной Азии, ср.: сол. маиса , маньчж. маjсэ . Средневековые чжурчжени называли пшеницу mai-tsi. Слово заимствовано у китайцев в период раннего средневековья, на китайском языке 麦子 màizi [6, т. I, с. 520]. Таким образом, даурское майс относится к заимствованиям и не входит в категорию тюрко-монгольских названий буудай , будай , бодай , bugdai . В то же время в даурском языке имеется слово бадаа (еда; рис), восходящее к общеалтайской лексеме буда ( а ) со значением «пшено; крупа; каша».
В тематической группе названий земледельческих орудий основное внимание уделим рассмотрению анжаас (плуг, соха), ср.: п.-мо. anзisun ~ anзusun (соха), бур. анзаhа(н) (соха; сошник); сол. анзасу; ульч. анза; нан. анза; маньчж. анза [6, т. I, с. 43]. Близость даурского анжаас к общемонгольскому языку становится явственной в обозначении сошника (лемеха), ср.: даур. анжасий косоо; монг. анжисны хошуу [1, т. I, с. 102]; маньчж. аньчжа халхань [4, с. 16]. В даурском языке анжаас употребляется редко. Другим, более распространенным у дауров обозначением плуга является саур. Термин саур не обнаруживает прямых соответствий в других языках и возможно, имеет древнее происхождение. Разгадка его этимологии, несомненно, приблизит нас к решению проблемы возникновения земледелия у дауров, и в целом — проблемы этногенеза народа. На данный момент, зафиксированы детали плуга: саурий барьул (рукоятка плуга); саурий вал (подошва плуга); сау-рий дяндаал (регулятор глубины пласта); саурий жургу (нижняя часть плуга вместе с плуговым ножом); саурий толууңку (стойки плуга.); саурий толь (лемех плуга); саурий хач (не определенная деталь плуга); саурий ширж (грядиль плуга) [5, с. 142]. Также кратко рассмотрены детали плуга в солонском языке и выяснено, что только одно название anjasong toggonko (стойки плуга) [9, с. 34] соответствует даурскому саурий толууңку. Названия других деталей солонского плуга — anjasong aral, a. dusi, a. eebelj, a. jeyi, anjasonni algang, a. bilehu, a. jawangko, a. need, a. sugur [9, c. 34] не совпадают с даурскими терминами.
Даурское название бороны наргоор , очевидно, относится к числу маньчжурских заимствований, ср.: маньчж. нарга (борона с зубцами) [4, с. 212]. Кот (орудие для сеяния) не имеет аналогов в других языках. Тарее хадур (серп) восходит к общемонгольскому названию серпа, ср.: монг. тарианы хадуур , бур. хадуур . Гунс (каменный каток, используемый при молотьбе) не обнаруживает удовлетворительных лексических параллелей, детали катка имеют следующие названия: гунсий жаас (деревянная рама катка); гунсий хэрэг (ось для крепления катка к раме); гунсий чомоо (отверстия в катке для оси) [5, с. 46]. Название ин (крупорушка) относится к разряду общемонгольских земледельческих терминов, ср.: монг. ин (жернов) [1, т. II, с. 274]. Такие даурские термины, как маус (жерновой постав, жерновая мельница), муэ (ручная мельница; жерновой постав), по всей вероятности, восходят к китайскому слову 磨 mò; mó —
-
1) молоть, размалывать; 2) тереть, растирать; 3) мельничный камень, жернов; мельница [2]. Появление этих и других китайских заимствований может быть связано с участием в этногенезе дауров ассимилированных китайских родов — някан хала, вошедших в состав народа предположительно в XVIII – XIX вв.
Таким образом, изучение отдельных тематических групп земледельческой лексики выявляет новые термины даурского языка, их исторические взаимосвязи с терминологией других народов. Отчетливо прослеживается общеалтайская и общемонгольская основа ряда ключевых названий. Вместе с тем, некоторые неизвестные в других языках слова, очевидно, указывают на раннее обособление предков дауров от монголоязычных народов. Часть терминов, несомненно, была заимствована у маньчжуров, или у их предков — чжурчжэней. Сходство многих наименований в даурском и солонском языках можно объяснить непосредственным влиянием даурской земледельческой культуры. Отдельные названия восходят к китайскому языку. Одни китайские заимствования могли войти в даурский язык в древнее время, другие связаны с позднейшим периодом, когда дауры начали проживать в Западной Маньчжурии. Несмотря на многие заимствования в земледельческой лексике дауров, тем не менее, выявляется ряд названий, указывающий на существование самобытной земледельческой культуры. Носителем этой культуры мог быть древний монголоязычный народ, проживавший на стыке монгольского и тунгусо-маньчжурского миров. В заключение заметим, что одного изучения земледельческой лексики недостаточно для построения целостной картины этногенеза дауров. Необходимо продолжить этнолингвистическое изучение лексики даурского языка, с привлечением данных других дисциплин: этнографии, фольклора, археологии. Только применение комплексного подхода поможет решить сложную проблему происхождения даурского народа.
Список литературы Земледельческая терминология дауров как источник по изучению этногенеза
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т./под ред. А. Лувсандэндэва. -М.: ACADEMIA, 2001. -Т. 1. -486 с.; Т. 2. -507 с.; Т. 3. -440 с.; 2002. -Т. 4. -532 с.
- Большой китайско-русский словарь . -URL: http://bkrs.info/
- Дегтярев Г. А. Чувашская народная агроботаническая терминология. -Чебоксары: ЧГИН, 2002. -140 с.
- Захаров И. Полный маньчжурско-русский словарь. -СПб.: Типография Императорской академии наук, 1875. -1129 с.
- Краткий дагурско-русский словарь/сост. Г. Тумурдэй, Б. Д. Цыбенов; отв. ред. Ж. Б. Бадагаров. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2014. -236 с.
- Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков: в 2 т./отв. ред. В. И. Цинциус. -Л.: Наука, 1975. -Т. 1. -672 с.; 1977. -Т. II. -992 с.
- Тодаева Б. Х. Дагурский язык. -М.: Наука, 1986. -190 с.
- Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь: в 2 т. -Улан-Удэ: Республиканская типография, 2006. -Т. 1. -635 с.; 2008. -Т. 2. -708 с.
- Е han cidian (Ewengki nihang bilehu biteg)/Di Daoerji bianzM. -Hailaer: Nei Mёnggй wenhua chubanshe, 1998. 795 p.