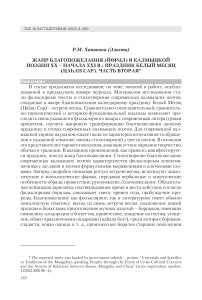Жанр благопожелания (й0рэл) в калмыцкой поэзии XX - начала XXI в.: праздник белый месяц (цаиан сар). Часть вторая
Автор: Ханинова Р.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье продолжено исследование по теме, начатой в работе, опубликованной в предыдущем номере журнала. Материалом исследования стали фольклорные тексты и стихотворения современных калмыцких поэтов, созданные в жанре благопожелания календарному празднику Белый Месяц (Цаhан Сар) - встрече весны. Сравнительно-сопоставительный, сравнительно-типологический и историко-функциональный подходы позволяют проследить связь указанного фольклорного жанра с современным литературным процессом, изучить жанровую трансформацию благопожелания данному празднику в стихах современных калмыцких поэтов. Для современной калмыцкой лирики на родном языке также не характерна интенсивность обращения к указанной тематике: восемь стихотворений у шести поэтов. В основном это представители старшего поколения, знающие устное народное творчество, обычаи и традиции. В названиях произведений, как правило, манифестируется праздник, иногда жанр благопожелания. Стихотворение-благопожелание современных калмыцких поэтов характеризуется фольклорным аспектом, начиная с заглавия и кончая формульными выражениями и ключевыми словами. Авторы, подробно описывая ритуал встречи весны, используют диалогические и монологические формы, передавая вербальные и кинетические особенности обряда: приветствие, рукопожатие, благопожелание. Обязательная пейзажная зарисовка, подтверждающее время и место действия, согласно фольклорным йорялам, показывает смену времен года, пробуждение природы. Благопожелание как фольклорное, так и литературное имеет обычно комплексную тематику: выход из зимы, встреча весны, подношение пищей предкам и божествам, приготовление мучных изделий - борцыков, имеющих символику плодородия и богатства, приветствие, хождение по гостям, угощение, обмен праздничными подарками (цаhана белг), среди которых борцыки, сладости, новая одежда и т. д., произнесение йорялов старшим поколением с пожеланием здоровья, благополучия, долголетия, прибавления потомства, увеличения поголовья скота и т.д. Стихи калмыцких поэтов прошлого столетия о Цаган Саре отличаются большим разнообразием по содержанию и форме, циклизацией. Таким образом, среди стихотворений-благопожеланий калмыцких поэтов о праздниках Зул и Цаган Сар большая часть приходится на второй праздник.
Календарные обрядовые благопожелания, праздник белый месяц, современная калмыцкая поэзия, фольклорный аспект, трансформация жанра, синтез жанров
Короткий адрес: https://sciup.org/149143545
IDR: 149143545 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-350
Текст научной статьи Жанр благопожелания (й0рэл) в калмыцкой поэзии XX - начала XXI в.: праздник белый месяц (цаиан сар). Часть вторая
Введение ко второй части статьи
Данная статья является продолжением работы по теме, опубликованной в предыдущем номере журнала и посвященной жанру благопожелания празднику Белый Месяц (Цаhан Сар) в калмыцкой поэзии ХХ в. [Ханино-ва 2023, 228–245]. В результате проведенного исследования выяснилось, что стихи калмыцких поэтов на данную тему были созданы во второй половине прошлого века, в период возрождения национальных календарных праздников и верований. Фольклорные аналоги йоряла повлияли на появление авторских благопожеланий сначала на родном, а затем – на русском языке в калмыцкой русскоязычной поэзии. Поэтика заглавия стихотворений калмыцких поэтов разных поколений передает в основном название праздника встречи весны (Цаһан Сар = Белый Месяц). В фольклорной традиции калмыцкие поэты используют формульные выражения, описывают смену зимне-весеннего сезонов, артикулируют ритуал приветствия, пожелания мира и благополучия, увеличения потомства в семьях и приплода скота, долголетия и здоровья, проецируют алгоритм хождения в гости, чаепития, обмен дарами. Монологические и диалогические формы у авторов являют также обращения к божествам, начальные формулы мантры, актуализируя религиозный аспект. Трансформация фольклорного аналога выражается в сюжетности, в большем синтезе восхваления (маг-тал) и благопожелания (йорял) в калмыцкой лирике прошлого столетия.
Благопожелания празднику Цаhан Сар в калмыцкой поэзии начала ХХI в.Поэтика заглавия
Фольклорная и литературная традиция благопожеланий празднику Цаhан Сар (Белый Месяц) в начале XXI в. тоже не отличается интенсивностью.
Несмотря на возрождение религиозных и календарных праздников, современные калмыцкие поэты по разным причинам меньше внимания уделяют данной теме.
Одной из причин, на наш взгляд, является отсутствие интереса у творческой молодежи, незнакомой с фольклором, поскольку среди авторов – люди пожилого возраста, хорошо знающие устное народное творчество, в том числе от своих родителей.
Так, с 2003 по 2021 гг. шестью авторами создано восемь стихотворений на родном языке. Из них Андреем Джимбиевым (1924–2021) и Николаевым Хатуевым (г.р. 1953) опубликовано по два стихотворения. Традиционное название имеет одно стихотворение Эрнеста Тепкенкиева (1931– 2017) «Цаhан Сар» («Белый Месяц», 2007). Другие расширенные названия текстов включают также обозначение праздника весны: «Цаhан сар болн хавр» («Белый месяц и весна», 2006) Андрея Джимбиева, «“Цаhан Сарин” байр» («Праздник “Белого Месяца”», 2011) Андрея Эрдниева (1935–2016), «Цаһан Сарин йѳрәл» («Благопожелание Белому Месяцу», 2014) и «Цаhана байрин йѳрәл» («Благопожелание празднику Цаган», 2021) Николая Хатуева. Одно стихотворение Андрея Джимбиева не имеет прямого названия, названо по первой строчке «Цаhан сар!..» («Белый месяц!..»), как и стихотворение Григория Авджаева (1953–2021) «Эртәр Цаhаг йосарнь тосхар…» («Чтобы пораньше встретить Цаган, как полагается…», 2009). Мерген Босхомджиев (г.р. 1991) назвал свое неопубликованное стихотворение формульным ритуальным приветствием: «Үвләс менд һарвта?» («Благополучно ли вышли из зимы?», 2020).
Написание праздника в названиях стихотворений дается по-разному: оба слова с заглавной буквы или заглавная буква есть только в первом слове, или единственное слово с заглавной буквы. Названия двух произведений завершаются восклицательным или вопросительным знаками.
Таким образом, ключевые слова, обозначающие праздник, как правило, присутствуют в названиях текстов, в двух примерах – у Н. Хатуева – есть указание и на жанр йоряла.
В структурном отношении стихотворения включают в основном несколько катренов, от 14 до 40 строк, при сплошном построении в одном случае А. Джимбиевым использована «лесенка».
При переводе стихотворения Э. Тепкенкиева название праздника В. Лиджиева передала по-калмыцки: Цаган Сар, при переводе стихотворения Г. Авджаева В. Багликов переиначил первую строку («Шкаф открываю, ведь опять…»).
О празднике Цаган Сар – детям
Два небольших стихотворения А. Джимбиева о празднике Цаган Сар, адресованные детской аудитории, опубликованы в детском журнале «Байр» («Радость») в начале 2000-х гг. Адресация детям, с одной стороны, свидетельствует о тенденции приобщения маленьких читателей к родной культуре, обычаям и обрядам, с другой – подтверждает одно из направлений писателя, создающего свои произведения не только для взрослых.
Первое стихотворение имеет кольцевую композицию с рефреном первых четырех строк: «Цаhан сар! / Цаhан сар! / Цагин эзн! / Хаврин сар!»
[Җимбин 2003, 6] («Белый месяц! Белый месяц! Хозяин времени! Весенний месяц!» Здесь и далее наш смысловой перевод. – Р.Х. ). Сразу поэт указывает на приход весны. Диалогическая конструкция (вопрос – ответ) определяет возрастной ракурс читателей: «Хаврт кен дурта? / Харада, зур-мн, кермн? / Цуг әмрлтс хаврт / Цань уга дурта» [Җимбин 2003, 6] («Кто любит весну? Ласточка, суслик, белка? Все живое любит весну»). Далее автор задает риторический вопрос: «Кен хаврт дурта? / Күн, мал, шовун?» («Кто весну любит? Человек, скот, птица?»). В отличие от первого вопроса, на который дается ответ, в этот раз ответ на перечисленные объекты отсутствует, упоминается лишь старая кошка, которая гуляет сама по себе. Таким образом, заданная вначале структура (вопрос – ответ) не соблюдается.
Второе стихотворение «Цаhан сар болн хавр» («Белый месяц и весна») в названии выделяет две составляющие: праздник и время года. Вновь используется рефрен «Цаhан Хавр хойр – / Цуг әмрлтин Байр!» [Җимбин 2006, 4] («Цаган и Весна – Праздник для всех живых!»). Этот рефрен повторяется трижды на протяжении 14 строк. Если в первом тексте календарный праздник назван полностью, то во втором тексте – только начальная часть (Цаhан), часто употребляемая в обиходе. В экспозиции указан топоним: «Хальмгур Цаhан ирв – / Хавр дарунь серв» [Җимбин 2006, 4] («В Калмыкию пришел Цаган – Весна сразу пробудилась»). Отсылку к благопожеланию Цаган Сару являет фольклорная формула: «Күн, мал – цуhар / Киитнәс менд hарв» [Җимбин 2006, 4] («Человек, скот – все вышли благополучно из холода»). Связь с фольклором проецирует и другой топоним – мифическая страна Бумба из калмыцкого героического эпоса «Джангар»: «Бумбин орна ѳргн тег / Бамб цецгүдәр дәкн кеерх!» [Җим-бин 2006, 4] («Просторная степь страны Бумбы украсится снова тюльпанами!»). Завершающие строки подтверждают радость калмыков: «Цаhан Хавр хойрта / Хальмгтн эндр байрта!» [Җимбин 2006, 4] («Калмыки сегодня радуются Цагану и Весне!»). Несмотря на то, что в заглавии второго стихотворения время года «весна» (хавр) дается со строчной буквы, в самом тексте это слово постоянно заявлено с заглавной буквы, как и слово «Байр» («Праздник»). Оба произведения изобилуют восклицательными знаками, передающими эмоциональный настрой.
Стихи А. Джимбиева для детей о празднике Цаган Сар перекликаются в этом плане с такими же стихами А. Балакаева, рассмотренными в первой части нашей статьи.
Поэтика благопожеланий Цаган Сару в современной калмыцкой лирике
Среди стихотворений современных калмыцких поэтов о Цаган Саре автобиографическим ракурсом отличается произведение Григория Авд-жаева «Эртәр Цаhаг йосарнь тосхар…» («Чтобы пораньше встретить Ца-ган, как полагается…», 2009), в котором два лирических субъекта – автор и его дочь, подарившая ему рубашку. Это стихотворение актуализирует народные йорялы «Шин хувцна йѳрәл» («Благопожелание новой одежде») [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 14] и «Ѳмскүлин йѳрәл» («Благопожелание подаренной одежде») [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 78], о которых мы писали в первой части нашей статьи. Связь с календарным праздником заявлена первой строкой стихотворения, где речь идет о подарках, принятых дарить друг другу в это время («цаhана белг»), в данном примере – подарочная одежда. При этом в оригинальном тексте отсутствует посвящение, которое есть в русском переводе (Дочери Замире). Автор начинает повествование о встрече праздника ранним утром, когда он открывает шкаф, чтобы развесить свою одежду в комнате для получения божественного благословения: «Эртәр Цаhаг йосарнь тосхар / Эндр ѳрүн шкафан сек-нәв. / Бурх шүтҗ әдс авхар / Би xopahap хувцан ѳлгнәв» [Авджаев 2009, 114]. Переводчиком имя божества персонализируется (Белая Тара) [Авд-жаев 2009, 115]. У калмыков было принято чистить, стирать одежду накануне праздника, развешивать ее для получения божественной защиты и покровительства.
Найдя среди одежды рубашку, подаренную когда-то ему дочерью, взволнованный отец прижимает одежду к груди: «Хувцн заагт киилг харhад / Хоолм ки давцхҗ шахгдв. / Күүнә зүрк гентк догдлулад / Кезәнә ѳгсн белг үзгдв» [Авджаев 2009, 114]. По содержанию неясно по какому случаю был преподнесен подарок – на Цаган, на день рождения и т.д., нет конкретизации времени (не в этот раз, а когда-то). Главное, дочернее подношение согрето ее отношением к отцу. Поэтому среди прочей одежды эта рубашка получит божественное благословение. Сама одежда обозначена словом «киилг» – рубашка [Калмыцко-русский словарь 1977, 298]. У переводчика – это футболка, которая в словарях не имеет калмыцкого эквивалента. Вероятно, конкретизация верхней одежды в виде футболки связана с упоминанием, что лирический субъект надевает ее летом. И хотя его фигура не далеко не спортивная, нарядная одежда придает человеку нужную форму. Заканчивается стихотворение отцовским признанием: «Күүкм белглснь нанд үнтә!» [Авджаев 2009, 114] («Подарок моей дочери для меня дорог!»). Подарок одеждой в калмыцком йоряле, как мы писали, символизирует пожелания долгой жизни, белой (счастливой) дороги, еще лучшей одежды, благополучия.
Стихотворение Эрнеста Тепкенкиева «Цаhан Сар» («Белый Месяц», 2007) в фольклорной традиции начинается пейзажной картиной – сменой времен года: в степи всходит трава, дни становятся длинней и теплей, снег тает, шумит талая вода, солнце высоко поднимается. В третьей строфе появляется название наступившего праздника: «Цаhан cap ирнә» [Тепкенки-ев 2007, 148] («Белый месяц пришел»), упоминается детвора, резвящаяся, поющая и танцующая. С четвертой строфы начинается описание праздничных ритуалов с приветствия, вопросов, как перезимовали: «Цаhан, цаhан, менд! / Цаhалдҗ әмтс байрлна. / Үвләс у hарвт? / Үкр, малтн бүрний?» [Тепкенкиев 2007, 148] («Цаган, цаган, здравствуй! Люди радуются, празднуя. Вышли из зимы? Коровы, скот целы?»). С пятой строфы даются подробности хождения по гостям, где привечают праздничным угощением, обязательно потчуют калмыцким чаем («Цаhана цә»), обмениваются конфетами и пряниками («балта, кампадь белглнә»). Здесь современная деталь в конкретизации сладких подарков, но нет включения в перечень подарков ритуальных борцыков на Цаган, как в народных йорялах. Ср. в переводе В. Лиджиевой: «А угощенье – борцоки с джомбой!» [Тепкенкиев 2007, 9].
Поэт подчеркнул, что этот праздник рождает светлые помыслы людей: «Цаhана байр күүнд / Цаhан седкл урhана» [Тепкенкиев 2007, 149]. Само чистое, светлое название праздника передает мудрость предков. Поэтому автор заключил: «Эн байриг даңгин / Энкрлҗ би тоснав!» [Тепкенкиев 2007, 149] («Этот праздник я всегда встречают с любовью!»). На протяжении 39 строк название праздника (помимо заглавия произведения) повторяется восемь раз: один раз полностью (Цаhан cap), а также в усеченном виде в разных формах: Цаhан, цаhалдҗ, Цаhана (цә), Цаhана (байр). Стихотворение в основном рифмовано парной анафорой за исключением полной анафоры в восьмой строфе. Несмотря на то, что оригинал структурирован катренами, у переводчика – единый текст.
Андрей Эрдниев в названии своего стихотворения «“Цаһан Сарин” байр» («Праздник “Белого Месяца”») не только артикулирует наименование, но и акцентирует праздничный дискурс. Автор сразу актуализирует необычность праздника, который бывает раз в году, и этот праздник встречают все люди: «Җилд нег дәкҗ / Җигтә байр ирнә. / “Цаhана” эн байриг / Цуhар әмтн тосна» [Эрдниев 2011, 80]. Подчеркивая, что по старинным калмыцким обычаям каждый человек отмечает праздник, поэт детализирует эти особенности: люди приветствуют друг друга, взявшись за руки (точнее, за предплечья), совершают обряды поклонения земле-воде: «Кезәңк хальмг авъясар / Күн болhн “цаhална”. / Һар-hаран бәрлдҗ, / Һазр-усндан мѳргнә» [Эрдниев 2011, 80]. Ср. в народном йоряле Цаган Сару: «Һалын буйн теңгрмдн евәҗ» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 56] («Совершив обряд поклонения огню для милости небес»).
Как Э. Тепкенкиев, так и А. Эрдниев использует глагол «цаhална» («цагануют», т.е. отмечают праздник Цаган Сар) от начальной части названия праздника («цаhан»). В третьем катрене продолжены ритуальные подробности: выйдя благополучно из зимы, в связи с этим люди высказывают друг другу благопожелания, готовят борцыки, делают подношение чаем божествам и предкам: «Үвләс менд hарснд / Yp-иньгүдән йѳрәнә. / Целвг, боорцг кенә, / Цәәhәр дееҗ ѳргнә» [Эрдниев 2011, 80]. Ср. в народном «Цаһан Сарин йѳрәл»: «Улан зандн цәәhән тәвҗ, / Хѳѳнә толhаhар дееҗ бәрҗ» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 56] («Красным сандаловым чаем, бараньей головой подношение сделав») или «Боорцг, цевлгәрн ги-ичлүлҗ, / Зандн цәәhән уулhҗ» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 96] («Угощая борцыками, лепешками, красным чаем»). Из множества форм праздничных борцыков на Цаган поэт указывает только «целвг» ( калм . круглая лепешка) [Калмыцко-русский словарь 1977, 631] в виде круга, символизирующего солнце.
Согласно традиции, старики произносят йорял-благопожелание весне: «Хәәртә аав-ээҗнр / Хаврин йѳрәлән тәвцхәнә» [Эрдниев 2011, 80].
Сам этот йорял не приводится. Ср. «Хаврин йѳрәл» («Благопожелание весне»), в котором передана весенняя картина с таящим снегом, бегущими ручьями, теплым солнцем, зеленой травой, высказано пожелание увеличения поголовья скота, спокойной жизни без воровства и лжи, без сплетен, благополучного существования всем людям на свете: «Цасн шулун хәәлҗ, / Цандг-усн элвдҗ, / Нарни герл дулатхад, / Ноhан ѳвс нәәхләд, / Хуцын ѳвр хуhрл уга, / Хурhна шиир кемтрл уга, / То күтц, толhа бүрн, / Хулха, худлын аюл уга, / Хов-хууҗин шилтән уга, / Әмтн делкә цуhарн / Амулң менд бәәтхә!» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 137].
Ср. в русском переводе Б. Оконова: «Пусть снег, растаяв скоро, / Водицей-лужей потечет. / Солнце силы набирает, / И все растущее цветет. / Рога бараньи не ломаются, / Ножки ягнят укрепляются, / Пусть числом увеличиваются, / Пусть без сплетен и лжи / Все народы Земли / В спокойствии пребывают!» [Родники народной мудрости 1984, 97].
Свое стихотворение А. Эрдниев по фольклорной традиции заканчивает благопожеланием: «Ирсн “Цаhанла” әмтн / Ик кишгтә болтха! / Цугтан тѳвкнүн бәәхиг / Цаhан аав мѳрәдтхә!» [Эрдниев 2011, 80] («Пусть будут счастливы люди на Цаган! Чтобы все люди жили в согласии, пусть Белый старец способствует этому!»). Упоминание божества земли и воды, хозяина мира Белого Старца (Цаhан аав / Делкә Цаhан аав / Делкә Цаhан Авhа), имя которого частотно в калмыцких благопожеланиях, связывает стихотворение поэта с другими фольклорными йорялами, например, «Зу-лын йѳрәл» («Благопожелание празднику Зул»), адресованному зимнему сезону, наступлению Нового года [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 21].
Два стихотворения Николая Хатуева о весеннем календарном празднике имеют жанровое уточнение, характерное для народных йорялов. В ряде его книг отдельный раздел посвящен жанру благопожеланий, где представлены авторские стихотворения, адресованные разным событиям: йорялы на свадьбу, в дорогу, молодежной семье, дню рождения, в том числе праздникам Зул и Цаган Сар [Хатуhа 2014, 67–78; Хатуhа 2021, 67–80].
В пяти строфах разного объема по содержанию и форме стихотворение «Цаhан Сарин йѳрәл» («Благопожелание Цаган Сару», 2014) близко к фольклорному аналогу. Будучи знатоком устного народного творчества, поэт подробнее описывает обряды и обычаи, сопровождающие встречу весны. Каждая строфа его стихотворения в отличие от других поэтов завершается благопожеланием. Так, в первой строфе: «Цацлын тавн йѳрәлән тәвцхәй» («Произнесем благопожелание пяти кроплениям»), во второй строфе: «Әмәрн бат болцхай!» («Будем крепкими духом!»), в третьей строфе: «Утта җирhл эдлтхә» («Пусть насладятся долгой жизнью»), в четвертой строфе: «Нутг-отг тѳвкнүн бәәтхә» («Пусть родина пребывает в мире»), в пятой строфе: «Окн-теңгр, олн Бурхд ѳршәтхә!» («Да будут милостивы к нам Окон-Тенгри, все Божества!») [Хатуhа 2014, 70–71].
По традиции стихотворение начинается с констатации того, что люди вышли из холодной зимы благополучно («Киитнь ивтрсн үвләс <…> Менд-амулң hарч»), сохранив скот, избежав бескормицы и страданий («Мал-аhрустаhан / Зуд-зовлң уга»). Здесь использованы характерные фольклорные словосочетания: менд-амулң (здравие-счастье), мал-аhрусн (скот-животные), зуд-зовлң (падеж скота в бескормицу – страдания, хло- поты). Ср. народный «Цаhан Сарин йѳрәл»: «Хамг мана әмтн / Киитн зудта үвләсн менд hарч, / Хаврин түрүн саран тосч…» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 64] («Все наши люди, выйдя благополучно из холодной с бескормицей зимы, встречая первый весенний месяц…»). Также автор призывает в этот радостный день Белого месяца сделать подношение (калм. дееҗ) предкам и божествам сакральной пищей: «Цаhан сарин байрта ѳдр / Цуг хотарн де-еҗән бәрҗ» [Хатуhа 2014, 70]. Во второй строфе звучит приглашение всем веселиться, петь песни, играть на домбре, танцевать без боязни и суеверий. В третьей строфе – адресация молодежи: пожелания жить без сплетен, обмана, воровства, без страданий, быть обходительными с людьми, перенять нравы предков, достичь долголетия: «Хов, худл, хулха уга / Зальта наста баhчуд, / Заң-седкләрн hольшг болҗ, / Зовлң уга җирhтхә. / Утта ѳвкнрин-нь бәрц бәрҗ, / Ут нас наслцхаҗ, / Утта җирhл эдлтхә» [Хатуhа 2014, 70]. Такое наставление молодежи характерно для многих народных йорялов, в частности непосредственно обращенных к молодому поколению, учитывая, что благопожелания обычно произносятся людьми пожилого возраста, передающими свои знания и опыт. Связь с прошлым передана в следующей строфе через такую деталь, как пожелание, чтобы скакун, кусая удила, стоял привязанным у дверей, в продолжение наставнической традиции следует обращение к молодежи – почитать родителей (старших), разговаривать на родном калмыцком языке: «Уудан кемлсн агтнь / Үүднднь хантрата зогсч, / Ээҗ-ааван күндлцхәҗ, / Эңкр хальмг келәрн күүндцхәҗ» [Хатуhа 2014, 71]. Беспокойство старшего поколения по поводу плохого знания национального языка молодежью обусловлено современной тенденцией исчезновения языков малочисленных народов. Заключительная строфа возвращает к обряду празднования: «Ном-йѳрәлән делгрүлҗ, / Хорhнд шарсн хорха боорцган / Шуурмгшта цәәдән девтәҗ эдлҗ, / Җил болhн Цаhаhан давулҗ, / Киитн үвлнь чилҗ, / Ке-сәәхн хаврнь ирҗ, / Олн-әмтн амулң эдл-хиг / Окн-теңгр, олн Бурхд ѳршәтхә!» [Хатуhа 2014, 71] («Провозглашая благопожелания, вкушая чай с хорха-борцыками и выжарками, каждый год встречая Цаган, когда кончится зима, придет прекрасная весна, чтобы все люди были счастливы, да будут милостивы к нам Окон-Тенгри, все Божества!»). Конкретизация вида борцыков «хорха» (букв. насекомые) символизирует множественность, изобилие, богатство. Ср. у других поэтов выделен вид «целвг» в форме круга-солнца, олицетворяющего нарастающее тепло солнца, пробуждение природы. Персонализация богини Окон-Теңгр (Небесная Дева), как мы уже рассматривали в первой части статьи, связана с калмыцкими мифами и легендами о возникновении праздника Цаган Сар, когда эта богиня спасла мир от гибели.
В авторском сборнике «Аршан булг» («Целебный родник», 2021) по сравнению с ранним сборником «Эцкин герәсн» («Отцовский завет», 2014) стихотворение «Цаhан Сарин йѳрәл» («Благопожелание Цаган Сару») напечатано уже без пяти строф, единым текстом, с незначительной стилистической правкой [Хатуhа 2021, 76–77].
Второе стихотворение Н. Хатуева «Цаhана йѳрәл» («Благопожелание на Цаган», 2014) вошло в авторскую книгу «Эцкин герәсн» («Отцовский завет», 2014). Этот текст состоит из двух неравномерных строф: в первой – 11 строк, во второй – 20 строк. Если в первом стихотворении пять строф завершались очередным благопожеланием, то в этом стихотворении две строфы построены по фольклорному принципу нанизывания, т.е. распространенное предложение заканчивается в конце каждой строфы.
Так, первая строфа начинается с пейзажной зарисовки: «Цаста үвл давҗ, / Цасн-мѳснь хәәлҗ» [Хатуhа 2014, 68] («Снежная зима ушла, снег-лед растаял»). Последующие строки являют обращение к людям встретить Цаган Сар, сделать подношение чаем и борцыками, растопить сало-масло для сакрального запаха, помолиться Окон-Тенгри, чтобы жить в мире и согласии ( букв. уместившись в общем подоле, фразеологизм), чтобы это благопожелание присоединилось к предшествующим благопожеланиям, чтобы достичь долголетия, чтобы Год Водяной Змеи был плодороден: «Цаста үвл давҗ, / Цасн-мѳснь хәәлҗ, / Цаhан саран тосцхаҗ, / Цә-боорц-гарн дееҗән бәрҗ, / Ѳѳкн-тосарн күңшү haphҗ, / Окн-теңгртән зальврҗ, / Олна хормад багтҗ, / Урдксиннь йѳрәлнь күрч, / Ут нас наслҗ, / Усн моhа җилин / Урhц байн болтха» [Хатуhа 2014, 68]. Для народных йорялов также характерно указание на определенный год, поскольку благопожела-ния проецируются и на современность, и на будущее. Ср. вариант этого хатуевского стихотворения в «Цаhана байрин йѳрәл» («Благопожелание празднику Цаган», 2021), в котором год указан по калмыцкому лунному календарю иной – «Улан така җилнь» («Год Красной Курицы») [Хатуhа 2021, 78]. Этот вариант отличается еще единым текстом, небольшой стилистической правкой.
Возвращаясь ко второму стихотворению поэта, заметим, что здесь не уточняется возрастная дифференциация, как в первом стихотворении, где есть и отдельное благопожелание молодежи. Тем не менее во второй части, судя по содержанию, возрастная аудитория – это прежде всего взрослые люди. Для большинства народных и авторских йорялов характерно пожелание хорошего, результативного, плодотворного труда. В этом плане хатуевский «Цаhана йѳрәл» не является исключением, на что указывают следующие строки: «Хѳд-малмудан ѳскҗ, <…> Теегиннь ѳргн аhуд / Тәрә-темсән урhаҗ» [Хатуhа 2014, 68] («Увеличивая поголовье овец-ско-та, выращивая на степных просторах зерна-фрукты»), т.е. подчеркивается, что благоденствие-счастье (хѳв-кишг) достигается не словами, пусть даже добрыми, а только результатами интенсивной работы, не деля на «твое» и «мое» («Тана-мана гиж йилhрл уга»), существуя в мире и согласии («Тегш сән бәәцхәҗ, <…> Тѳвкнүн менд бәәцхәҗ») [Хатуhа 2014, 68]. Современный аспект йоряла подтверждается новым типом хозяйствования прежних кочевников (земледелие, садоводство) помимо скотоводства.
Одно из условий счастья-благополучия в йорялах – это крепкая, многодетная семья, многочисленная родня, внуки по линиям сына и дочери («Тѳрл-тѳрсәрн ѳнр болҗ, / Үрн-садан ѳскҗ, <…> Ачнр-зеенрән альхн деерән ѳскҗ») [Хатуhа 2014, 68–69]. Поэт в последнем примере прибегнул к метафоре (растить внуков на своей ладони), которая в фольклорной традиции передает бережное, заботливое отношение к потомству. Мотив поучения, обязательный для искомого жанра, также присутствует и в этом тексте: «Уха-сурhмҗан зааҗ» («Учить уму-разуму») [Хатуhа 2014, 69]. Не обошлось у автора без упоминания войны и защиты от нее: «Дән талнь шивә болҗ, / Дәәвлх талнь түшг болҗ» [Хатуhа 2014, 69] («Быть крепостью против врага, опорой в наступлении»), иными словами, речь идет о патриотизме. При всех этих условиях, как актуализирует поэт, счастье-благополучие как ни выскребай – не кончится («Хусад уhавчн, чилшго»). Поэтому для того, чтобы жизнь была лучше и лучше, пусть все небожители, божества будут милостивы к людям: «Җирhлин сәәниг җирh-хиг / Олн Деедс бурхд ѳршәх болтха!» [Хатуhа 2014, 69]. Таким образом, и второе стихотворение завершается религиозным аспектом. Текст структурирован глагольными формами, как и полагается в таком жанре, с нанизыванием пожеланий для благополучного существования.
Благопожелание празднику Цаган Сар в творчестве молодого поколения
Стихотворение молодого автора, ученого-фольклориста, Мергена Босхомджиева отличается от предыдущих примеров тем, что в названии, как мы уже сообщали, дано вопросительное приветствие из ритуала встречи во время праздника: «Үвләс менд һарвта?» («Благополучно ли вышли из зимы?», 2020). Кроме того, если у других поэтов топонимы имели местное обозначение родного края, то в данном случае география представлена шире: «“Үвләс менд һарвта?” гиҗ / Цаһан сарин мендчилһ / Цастн Алта, Өргн Иҗл Зәәд / Урдк цагин нандин сойл» [Босхомджиев 2020] («Благополучно ли вышли из зимы? – говорили, приветствуя в дни Цаган Сара. На склонах белоснежного Алтая, в междуречье полноводной Волги и Урала так испокон веков приветствовали друг друга»), т.е. дан исторический экскурс в культуру монголоязычных народов. Во втором катрене автор также описал ритуал приветствия в вербальном и кинетическом плане: «“Менд һарув” гиҗ / Хәрүлтин сәәхн улмҗлл. / Һаран ханцндан бултлҗ, / Хойр күмни золһлт» [Босхомджиев 2020] («“В здравии вышел” – таков прекрасный ответ. Прячут кисти рук в рукава своей одежды два человека при встрече»). Мы уже писали в первой части статьи, почему нельзя было у ойратов в дни этого праздника приветствовать друг друга, пожимая ладони, поскольку, согласно одной легенде, после спасения мира от гибели у Небесной Девы руки оставались в крови. Ритуал рукопожатия в этом случае был на уровне предплечья. В своем стихотворении автор использовал диалоговую конструкцию в ритуальной традиции: вопрос – ответ.
Как и другие поэты, М. Босхомджиев также упоминает ритуал подношения божествам пищи с молитвой, уточняя, что эта пища должна быть горячей, чтобы от нее поднимался горячий пар, считалось, что он дойдет до небес и его небожителей. Здесь вновь автор экстраполирует этот обряд на весь монголоязычный мир, который до сих пор соблюдает эту святую традицию: «Деедстән халун уурта хотыг / Дееҗ болһҗ зальврн бәрдг. / Делкән өнцг булңд / Көк моңһлчудын әрүн заңшил» [Босхомд- жиев 2020]. В четвертом катрене указан временной ориентир, когда по традиции встречают праздник ранним утром (букв. наперегонки с солнцем, фразеологизм), получают благословение в домах седовласых людей: «Мандх нарта булалдҗ босдг – / Мана өвкнрин үнтә удмшил. / Буурл на-стачудын әәл гертнь / Маанин йөрәлд күртх сойл» [Босхомджиев 2020], т.е. присутствует мотив хождения по гостям с поздравлением. Так же, как и другие авторы, молодой поэт подчеркивает семейно-родовой характер праздника, когда семья, родня встречаются друг с другом, радуясь наступлению весны. Отсюда завершающее пожелание пребывать в спокойствии и счастье: «Төрл-садарн Цаһалҗ, / Төвкнүн җирһл эдлҗ, / Элгн-садарн Цаһалҗ, / Эңк амулң эдлцхәтн!» [Босхомджиев 2020]. Здесь используется глагольная форма «Цаһалҗ» (от названия праздника Цаган). В тексте нет глагольного диктата, большей частью автор стремится к обобщающим формулировкам. По сравнению со старшими коллегами, молодой поэт не всегда придерживается обязательного для национального стихосложения анафорического построения текста. Если в первой строфе дана кольцевая анафора, в заключительной – парная анафора, то в остальных строфах нет четкой структуризации начальной рифмы.
Как убеждаемся, представитель молодого поколения пытается следовать в своем произведении как фольклорной, так и литературной традиции, в расширенном векторе времени и пространства.
Заключение
Подводя итоги, отметим следующее. Для современной калмыцкой лирики на родном языке тоже не характерна интенсивность обращения к указанной тематике: восемь стихотворений у шести поэтов. В основном это представители старшего поколения, знающие устное народное творчество, обычаи и традиции: А. Джимбиев, Э. Тепкенкиев, А. Эрдниев, Г. Авд-жаев, Н. Хатуев. Исключением стало неопубликованное стихотворение молодого поэта, ученого-фольклориста М. Босхомджиева. Детской аудитории адресованы два небольших стихотворения А. Джимбиева, у остальных авторов – взрослая аудитория.
В названиях произведений, как правило, манифестируется праздник: 1) полностью, 2) частично, 3) с жанровой конкретизацией. Единственное стихотворение названо ритуальным вопросом приветствия.
В основном стихотворения структурированы традиционным для калмыцкого стихосложения катреном, кроме того, неравномерными строфами или единым текстом. Фольклорные аналоги имеют единую структурную конструкцию, разворачиваются по принципу нанизывания перечисления пожеланий. В подобной традиции создано стихотворение Н. Хатуе-ва «Цаhана йѳрәл» («Благопожелание на Цаган», 2014), состоящее из двух неравномерных строф, в которых по одному распространенному предложению. Стихотворение-благопожелание современных калмыцких поэтов характеризуется фольклорным аспектом, начиная с заглавия и кончая формульными выражениями и ключевыми словами. Авторы, подробно описывая ритуал встречи весны, используют диалогические и монологические формы, передавая вербальные и кинетические особенности обряда: приветствие, рукопожатие, благопожелание. Обязательная пейзажная зарисовка, подтверждающее время и место действия, согласно фольклорным йорялам, показывает смену времен года, пробуждение природы. Благопо-желание как фольклорное, так и литературное имеет обычно комплексную тематику: выход из зимы, встреча весны, подношение пищей предкам и божествам, приготовление мучных изделий – борцыков, имеющих символику плодородия и богатства, приветствие, хождение по гостям, угощение, обмен праздничными подарками (цаhана белг), среди которых мелкие монеты, борцыки, сладости, новая одежда и т.д., произнесение йорялов старшим поколением с пожеланием здоровья, долголетия, благополучия, счастья, прибавления потомства, увеличения поголовья скота, мира и т.д.
Из представленных примеров одно стихотворение Г. Авджаева строится на мотиве подарка одеждой. Н. Хатуевым конкретизирован год по калмыцкому лунному календарю в одном стихотворении и его варианте.
Современные поэты не обращаются к легендам и мифам о появлении праздника, но в некоторых текстах есть упоминания богини Окон-Тенгри, к которой, как и другим божествам, взывают с молитвой.
Стихи-благопожелания современных калмыцких поэтов характеризуются так же, как и фольклорные аналоги, часто синтезом йорялов, когда основному тематическому йорялу сопутствуют элементы других йорялов, например, в дорогу, подарочной одежде и др.
Стихи калмыцких поэтов прошлого столетия о Цаган Саре отличаются большим разнообразием по содержанию и форме, циклизацией.
Большинство стихотворений-благопожеланий современных калмыцких авторов также создано в традиции национального стихосложения: начальная рифмовка (анафора) разных видов, форма четверостишия, свободная конечная рифма и рифмовка, исключением стало использование «лесенки» А. Джимбиевым в одном из детских текстов.
В целом, наблюдается общая тенденция в современном литературном процессе – снижение интереса и соответственно стихотворений о календарных обрядовых праздниках (Зул – встреча зимы / Нового года, Цаhан Сар – встреча весны).
Заметим, что до сих пор на родном языке нет стихотворений, посвященных другому календарному обрядовому празднику – Үрс Сар, встрече лета. Исключением стало стихотворение русскоязычного калмыцкого поэта Риммы Ханиновой «Урюс Сар» (1997) [Ханинова 2007, 4], переведенное позже поэтом Эрдни Эльдышевым [Ханинова 2022]. Между тем существуют фольклорные аналоги йоряла этому летнему празднику, например: «Үр сарин үрс ѳдрин йѳрәлмүд» («Благопожелания на Урюс Сар») [Әмд бул 1993, 39–40], «Үрс сарин йѳрәл» («Йорял в честь Урюс Сар») [Бор-джанова 1999, 170–171], «Үрс Сарин нәәрәдсн йѳрәл» («Благопожелание, посвященное Урюс Сару») [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 113–114].
В нашей статье мы рассмотрели только стихи, посвященные празднику Цаган Сар, в фольклорном аспекте жанра, не исследуя элементы такого благопожелания у калмыцких поэтов в других жанровых образованиях большего объема – в поэме, повести в стихах и т.д. Но и там общая картина использования данного жанра в целом такая же.
Таким образом, среди стихотворений-благопожеланий калмыцких поэтов о праздниках Зул и Цаган Сар большая часть приходится на второй праздник [Ханинова 2023а; Ханинова 2023b].
Список литературы Жанр благопожелания (й0рэл) в калмыцкой поэзии XX - начала XXI в.: праздник белый месяц (цаиан сар). Часть вторая
- Авджаев Г. Прикосновение луны (стихотворения на калмыцком и русском языках). Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2009. 160 с.
- Босхомджиев М. Үвләс менд һарвта? Из личного архива.
- Җимбин А. «Цаhан сар!..» // Байр=Радость. 2003. № 3. Х. 6.
- Җимбин А. Цаhан сар болн хавр // Байр=Радость. 2006. № 3. Х. 4.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Рус. яз., 1977. 768 с.
- Родники народной мудрости / сост., вступ. ст., пер. Б.Б. Оконова. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1984. 112 с.
- Тепкенкиев Э.И. Цаган Сар. Стихи на рус. и калм. яз. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2007. 240 с.
- Хальмг улсин йѳрәлмүд (Калмыцкие народные благопожелания) / Сост., вступ. ст. М.Э.-Г. Эрдни-Горяева. Подготовка текстов и приложения Э.Б. Овалова. Элиста: КИГИ РАН, 2010. 160 с.
- Ханинова Р. Урюс-Сар // Хальмг үнн. 2007. 17 мая. С. 4.
- Ханинова Р. Yрс Сар // Теегин герл. 2022. № 2. (на обороте лицевой обложки).
- Хатуhа Н. Аршан булг: шүлгүд, келврмүд, домгуд, йѳрәлмүд, үлгүрмүд, авъясмуд. Элст: Җаңhр, 2021. 112 х.
- Хатуhа Н. Эцкин герәсн: шүлгүд, келвр, үлгүрмүд, домгуд, орчуллhн. Элст: Җаңhр, 2014. 91 х.
- Эрдниев А.Б. Степь и песня: стихотворения. На калм. и рус. яз. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2011. 80 с.
- Борджанова Т.Г. Магическая поэзия калмыков: исследование и материалы. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1999. 182 с.
- (а) Ханинова Р.М. Жанр благопожелания (йѳрәл) в калмыцкой поэзии ХХ–начала XXI в.: праздник Зул // Новый филологический вестник. 2023. № 1(64). С. 323–340.
- (b) Ханинова Р.М. Жанр благопожелания (йѳрәл) в калмыцкой поэзии ХХ–начала XXI в.: праздник Белый Месяц (Цаһан Сар). Часть 1 // Новый филологический вестник. 2023. № 2(65). С. 228–245.